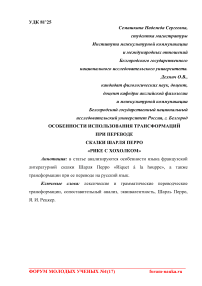Особенности использования трансформаций при переводе сказки Шарля Перро "Рике с хохолком"
Автор: Семашкина Н.С., Дехнич О.В.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности языка французской литературной сказки Шарля Перро «Riquet à la houppe», а также трансформации при ее переводе на русский язык.
Лексические и грамматические переводческие трансформации, сопоставительный анализ, эквивалентность, шарль перро, я. и. рецкер
Короткий адрес: https://sciup.org/140279689
IDR: 140279689
Текст научной статьи Особенности использования трансформаций при переводе сказки Шарля Перро "Рике с хохолком"
При переводе художественных текстов важно максимально бережно и точно передать своеобразие оригинала. С этой задачей переводчикам помогают справиться переводческие трансформации.
Существуют различные определения этого термина, но большинство исследователей понимают под трансформацией возможность достижения эквивалентности при переводе с одного языка на другой путем преобразования языковых единиц. По мнению Я. И. Рецкера (классификации которого мы будем придерживаться в дальнейшем) трансформации – это «приемы логического мышления, с помощью которых переводчик раскрывает значение иноязычного слова в контексте и находит ему русское соответствие, не совпадающее со словарным (лексические трансформации) и преобразования структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами переводящего языка (грамматические трансформации)» (Рецкер, 1974:138).
Лексические трансформации, как считает Я. И. Рецкер, заключаются в дифференциации значения, конкретизации значения, генерализации значения, смысловом развитии, антонимическом переводе, целостном преобразовании и компенсации потерь, возникающих в процессе перевода. Отдельные приемы трансформаций могут совмещаться. Наиболее часто это происходит с первыми двумя видами, которые сочетаются друг с другом. При этом, - отмечает ученый, - дифференциация может использоваться без конкретизации, если объясняется некое абстрактное понятие, и нет необходимости уточнять его значение в тексте перевода. Но неверно конкретизировать то, что намеренно дано расплывчато в подлиннике.
Конкретизация, - по утверждению Я. И. Рецкера, - напротив, всегда сопровождается с дифференциацией и невозможна без нее. В этой связи лингвистами неоднократно отмечалось, что в русском языке лексика более конкретна, чем в английском или французском языках.
Прием генерализации используется не так часто, что оправдано стилистическими нормами, применяемыми в русском языке.
О приеме смыслового развития можно говорить в случае замены в процессе перевода словарного соответствия – контекстуальным, связанным с ним логически. Антонимический перевод Я. И. Рецкер, по сути, считает «крайней точкой» приема смыслового развития.
Прием целостного преобразования ученый кратко определяет как синтез значения без непосредственной связи с анализом. Компенсацией потерь при переводе предлагается считать замену непередаваемого элемента подлинника другим элементом, подходящим по общему смыслу и стилю оригинала и в том случае, если это удобно сделать по нормам русского языка.
Грамматические трансформации, - по классификации Я. И. Рецкера, - представляют собой преобразовании структуры предложения в соответствии с нормами, принятыми в языке перевода. При этом может происходить полная трансформация (когда заменяются главные члены предложения) или частичная (когда заменяются второстепенные члены предложения). Замене могут подвергаться и части речи. Также возможны изменение порядка слов, добавления или опущения слов.
Абсолютная эквивалентность (тождественность) – по мнению большинства исследователей, - невозможна. По причине семантических, структурных и прагматических различий исходного и переводного текстов. Перевод французской литературной сказки, как правило, содержит некоторое количество переводческих трансформаций. Рассмотрим особенности использования трансформаций при переводе сказки Шарля Перро «Рике с хохолком».
Важная особенность перевода литературных сказок заключается в передаче их образности. Переводчику необходимо создать текст, дающий наиболее полное представление об оригинале в иноязычной культуре. И это первая трудность в переводе сказки. Перевод не получится полноценным, если, к примеру, конкретный образ будет заменен более сложным и более абстрактным. Имеют значение и особенности художественного восприятия переводчика – его талант и своеобразие отбора языковых средств.
Некоторые проблемы перевода французской литературной сказки позволит выявить сопоставительный анализ способов перевода грамматических особенностей сказки Шарля Перро «Riquet à la houppe» на русский язык: по А. Федорову («Рике с хохолком»), Г. Шалаевой («Чубчик-Рикки») и И. Тургеневу («Рике-хохолок, или Хохлик»). В данной статье будет также рассмотрено применение упомянутых выше переводческих трансформаций.
При изучении перевода сказки Шарля Перро «Riquet à la houppe», выполненного А. Федоровым, нами были найдены примеры применения переводческих трансформаций. Рассмотрим некоторые из них.
Членение предложения.
Короткие предложения в сказке «Riquet à la houppe» практически не встречаются. В переводе А. Федорова, напротив, синтаксическая структура предложения из оригинального текста нередко преобразуется в две предикативные структуры в языке перевода (пример 1):
J’oubliais de dire qu’il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille (Perrault, 1968:97).
Я забыл сказать, что родился он с маленьким хохолком на голове, а потому его и прозвали: Рике с хохолком. Рике было имя всего его рода.
В этом примере мы видим, как оправданное применение переводчиком такого приема, как членения предложения, делает текст в целом более простым и удобным для восприятия читательской аудиторией.
Генерализация.
Этот прием применяется в случае замены частного понятия – общим, или же видового понятия - родовым (пример 2):
Elle était avec cela si maladroite qu’elle n’eût pu ranger quatre porcelaines sur le bord d’une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d’eau sans en répandre la moitié sur ses habits (Perrault, 1968:99).
К тому же она была такая неловкая, что если переставляла на камине какие-нибудь фарфоровые вещицы, то одну из них непременно разбивала, а когда пила воду, то половину стакана всегда выливала себе на платье.
В процессе перевода конкретные «quatre porcelains» (четыре фарфоровые посудины) трансформируются в «какие-нибудь фарфоровые вещицы».
Здесь же видим еще один пример генерализации, когда «un verre d’eau» (стакан воды) трансформируется в более общее понятие «пила воду».
Однако окончание предложения содержит иной вид переводческой трансформации - конкретизацию (пример 3):
«… sans en répandre la moitié sur ses habits» (… не разлив половины на свою одежду) – в русской версии читаем: «… то половину стакана всегда выливала себе на платье».
Конкретизация как вид трансформации подразумевает замену более широкого значения слова или словосочетания в языке оригинала – на слово или словосочетание с более узким смысловым значением (пример 4):
Il était une fois une reine qui accoucha d’un fils, si laid et si mal fait, qu’on douta longtemps s’il avait forme humaine (Perrault, 1968:97).
Жила когда-то королева, у которой родился сын, такой безобразный, что долгое время сомневались – человек ли он.
В исходном тексте «si laid et si mal fait» можно перевести как «столь некрасивого и столь плохо сложенного», но переводчик выбирает всего одно слово – «безобразный».
Целостное преобразование.
Данный прием является своего рода разновидностью смыслового развития. Преобразованию могут подвергаться как отдельное слово, так и целое предложение, причем преобразование происходит не поэлементно, а целостно (пример 5):
-
– Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse; et en demeura là (Perrault, 1968:101).
-
– Вы так любезны, сударь, - ответила ему принцесса и больше ничего не могла придумать.
Практически дословно и ближе к исходному тексту ответ принцессы можно было бы перевести следующим образом:
-
- Это вам так угодно говорить, сударь (plaire – нравиться), - ответила ему принцесса и на этом остановилась (demeurer – пребывать).
Переводчик выбрал более изящную форму изложения, что вполне подходит к общему «светскому» тону беседы принцессы и принца. И вполне успешно сумел передать растерянность принцессы, не знающей, как продолжить разговор.
Опущения.
В процессе перевода опускаются, как правило, семантически избыточные слова, не влияющие на общее понимание текста. То есть, выражающие значения, которые могут быть понятны из текста (пример 6):
Moralité
Ce que l’on voit dans cet écrit,
Est moins un conte en l’air que la vérité même.
Tout est beau dans ce que l’on aime,
Tout ce qu’on aime a de l’esprit.
Мораль
Из сказки следует одно,
Зато вернее самой верной были!
Все, что мы с вами полюбили,
Для нас прекрасно и умно.
В отличие от оригинала сказки Шарля Перро, анализируемый вариант перевода не содержит макропредложение «Мораль». Отметим, что в сборнике «Французские народные сказки. Сказки французских писателей» перевод А. Федорова все же дополнен «Моралью» и «Иной моралью» в стихотворной форме в переводе Л. Успенского (Французские народные сказки. Сказки французских писателей, 1988:329). В рассматриваемых ниже переводах Г. Шалаевой и И. Тургенева макропредложение «Мораль» отсутствует совсем.
По нашему мнению, перевод, выполненный А. Федоровым, можно отнести к наиболее удачным и наиболее полно соответствующим оригиналу французской литературной сказки Ш. Перро «Riquet à la houppe». Переводческих трансформаций в тексте не много, а те, что есть – применены корректно. Текст выглядит целостно, раскрыта сущность эквивалентных отношений содержания оригинала и перевода. Средствами русского языка А. Федорову, по нашему мнению, прекрасно удалось выразить эмоциональносмысловые особенности оригинала французской литературной сказки «Riquet à la houppe».
На следующем этапе анализа рассмотрим трансформации в переводе сказки «Riquet à la houppe», выполненном Г. Шалаевой.
Уже в первом абзаце (вместившем информацию сразу двух начальных абзацев исходного текста сказки Ш. Перро) мы видим значительное количество переводческих преобразований (пример 7). Рассмотрим их подробнее.
Il était une fois une reine qui accoucha d’un fils, si laid et si mal fait, qu’on douta longtemps s’il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu’il ne laisserait pas d’être aimable, parce qu’il aurait beaucoup d’esprit; elle ajouta même qu’il pourrait, en vertu du don qu’elle venait de lui faire, donner autant d’esprit qu’il en aurait à la personne qu’il aimerait le mieux.
Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d’avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu’il dit mille jolies choses, et qu’il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel, qu’on en était charmé. J’oubliais de dire qu’il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille (Perrault, 1968:97-98).
Жила-была королева, которая родила такого ужасного урода сына, что все, кто видел его, не могли смотреть без содрогания. Ребенок родился с пучком волос на голове, который торчал вверх, как пучок сухой травы, никак не хотел приглаживаться и был такой скользкий, как будто его облизала языком корова. Поэтому ребенку и дали имя – Чубчик-Рикки. Но для королевы этот уродец был желаннее всех детей на свете. Волшебница, которая явилась ему на крестины, одарила его необыкновенным умом и предрекла также, что Чубчик-Рикки сможет передавать свой ум всякому, кого он полюбит. Королева была счастлива, услышав предсказания волшебницы.
Автор перевода здесь и далее активно использует прием целостного преобразования . Значительные отрезки текста преобразуются, причем не по элементам, а целостно.
Образность описанию внешности принца в переводе Г. Шалаевой придают сравнения, которых, однако, не было в оригинальной версии текста. Ш. Перро коротко отмечает, что принц родился с маленьким хохолком волос на голове. Г. Шалаева эту особенность внешности маленького принца расписывает довольно подробно, используя сравнения с пучком сухой травы и др. В данном случае имеет место такой вид переводческих трансформаций, как добавление.
Прямо противоположным добавлению является прием, называемый в процессе перевода опущением. Исходный текст сказки содержит предложение, в котором подчеркивается, что как только маленький принц начал говорить, то наговорил тысячу премилых вещей, а в своих поступках этот ребенок был настолько умным и одухотворенным, что все были этим очарованы. В переводном тексте данное предложение отсутствует. Можно предположить, что это сделано, чтобы не загромождать текст сложными синтаксическими конструкциями и облегчить чтение.
Следует выделить и пример антонимического перевода. В данном случае он реализуется как замена языкового выражения, имеющегося в подлиннике, противоположным понятием в переводе. В исходном тексте указывается, что предсказание феи «утешило немного бедную королеву, которая была весьма огорчена». У Г. Шалаевой же видим совершенно иное описание этих эмоций:
Королева была счастлива, услышав предсказания волшебницы.
Значительные преобразования исходного текста сказки «Riquet à la houppe» наблюдаем и в дальнейшем (пример 8):
Au bout de sept ou huit ans la reine d’un royaume voisin accoucha de deux filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour: la reine en fut si aise, qu’on appréhenda que la trop grande joie qu’elle en avait ne lui fît mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n’aurait point d’esprit, et qu’elle serait aussi stupide qu’elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine; mais elle eut quelques moments après un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide (Perrault, 1968:98).
Через несколько лет королева соседней страны родила двух дочерей. Первая была прекрасна, как солнце, но волшебница, которая присутствовала при родах, сказала, что она, к сожалению, будет, несмотря на это, глупа как пробка. Когда вслед за первой на свет появилась вторая дочь, королева упала без чувств, увидев, какого страшного уродца она родила.
В числе используемых переводческих трансформаций здесь следует выделить прием генерализации: в исходном тексте рассказывается, что королева соседней страны родила двух дочерей по истечении «семи или восьми лет» - в переводе используется более абстрактное указание «через несколько лет».
Далее видим прием объединения предложений: в оригинальном тексте факт рождения первой принцессы и предсказание феи описываются в двух разных предложениях, в переводном тексте эти события объединены в одно.
Г. Шалаева вновь использует такие средства выразительности речи, как сравнения: «прекрасна, как солнце», «глупа как пробка». Но в оригинале сказки у Ш. Перро читаем, что принцесса была «прекраснее дня» («était plus belle que le jour»), а второе сравнение отсутствует вовсе. Этот же прием добавления можно встретить в следующем предложении, повествующем об обмороке королевы. Подобных деталей текст Ш. Перро не содержит. Однако у него подробно описывается первоначальная радость королевы, увидевшей, какой красавицей родилась ее первая дочь. Опущению при переводе подверглась и часть текста, в котором рассказывается о присутствующей фее. В исходном тексте отмечается, что это была та сама фея, которая присутствовала при рождении маленького принца Рике. При последующем переводе у Г. Шалаевой эта конкретика отсутствует.
Сочетание различных трансформаций присутствует и в процессе дальнейшего перевода (пример 9):
À mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leurs perfections crûrent aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l’aînée, et de l’esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l’âge. La cadette enlaidissait à vue d’oeil, et l’aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce qu’on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu’elle n’eût pu ranger quatre porcelaines sur le bord d’une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d’eau sans en répandre la moitié sur ses habits (Perrault, 1968:99).
По мере того, как девочки подрастали, одна становилась все глупее и глупее, а другая уродливее и уродливее. На балах гости всегда поначалу толпились вокруг красавицы, чтобы полюбоваться ею, но, послушав несколько минут ее глупую болтовню, переходили к младшей. Кроме того, старшая была такая разиня и неумеха, что постоянно все роняла, разбивала и ломала вокруг.
Переводчик в этом примере использует как прием целостного преобразования: в исходном тексте речь идет о том, что по мере взросления принцесс росли их совершенства, но и увеличивались их недостатки; так и прием опущения – оригинальный текст содержит развернутое описание возрастающей глупости старшей принцессы. Кроме того, мы видим прием конкретизации: в исходном тексте сказано, что «везде только и говорили, что о красоте старшей и о разуме младшей». Г. Шалаева конкретизирует, что это происходило «на балах». Далее следует прием генерализации и прием добавления: у Ш. Перро отмечается неуклюжесть принцессы, которая не могла ни расставить четыре фарфоровые посудины на каминной полке, не разбив одну из них, ни выпить стакан воды, не разлив половины на свою одежду. В переводе Г. Шалаевой отмечается, что принцесса «постоянно все роняла, разбивала и ломала вокруг». Эпитеты «разиня» и «неумеха» добавлены автором. Возможно, это сделано для выражения экспрессии и создания эффекта особой эмоциональной реакции.
Другой пример генерализации, а также конкретизацию мы видим при описании шума подземной кухни (пример 10):
Dans le temps qu’elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent (Perrault, 1968:104-105).
Вдруг мысли принцессы были прерваны тонкими голосками, которые доносились прямо из-под земли, как будто под ней бегали и ходили тысячи маленьких человечков.
Шарль Перро пишет, что принцесса услышала «глухой шум», а Г. Шалаева конкретизирует, что от раздумий принцессу отвлекли «тонкие голоски». Далее происходит генерализация: французское сравнение «comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent» («как будто несколько человек уходят и приходят, совершают действия») трансформируются в описание того, как «бегали и ходили тысячи маленьких человечков».
Интересно, что ниже, непосредственно при описании кухни, переводчик использует смешение трансформаций (пример 11).
Посмотрев под ноги, принцесса увидела в земле щель, глянув в которую, она обнаружила маленьких эльфов, которые в поварских колпаках готовили различные кушанья.
Каждый из них носил в ухе золотую сережку в виде маленькой вилочки – отличительный знак их профессии. Распевая веселые песни, они резали мясо, пекли пироги, взбивали крем.
В данном случае имеет место целостное преобразование: в оригинальном тексте сказки сказано, что «земля раскрылась в тот же миг» и принцесса увидела под ногами «нечто вроде большой кухни», наполненной поварами, поварятами и всевозможными распорядителями. В авторском переводе принцесса увидела в земле щель и обнаружила эльфов в поварских колпаках.
Далее в оригинальном тексте сказки приводится развернутое описание того, чем именно занимались все увиденные принцессой персонажи. Указывается, что 20 или 30 вертельщиков жареного мяса отделились от общей группы и отправились в одну из аллей леса, чтобы там расположиться вокруг очень длинного стола; что у них в руках были шпиговальные иглы; что одеты они были в шапки с лисьями хвостами, свешивающимися на ухо, а работать они принялись в такт под звуки благозвучной песни. Г. Шалаева при переводе этого отрывка использует прием опущения – всех вышеперечисленных описаний в ее тексте нет, а также добавления – ее авторский перевод содержит собственное, отличное от исходного, описание внешности эльфов. В ее версии перевода эльфы сами «распевают веселые песни» и готовят вполне конкретные блюда – мясо, пироги и крем.
Грамматические замены наблюдаем в переводе диалога подземных поваров (пример 12):
Ayant prêté l’oreille plus attentivement, elle ouït que l’un disait: «Apporte-moi cette marmite»; l’autre: «Donne-moi cette chaudière»; l’autre: «Mets du bois dans ce feu» (Perrault, 1968:105).
-
- Увеличь огонь, - сказал один голосок.
Другой ответил:
-
- Здесь мы поставим столы.
-
- Где золотой котел? – спросил третий.
В данном случае грамматическая замена заключается в трансформации не столько самой исходной формы, сколько ее грамматических и смысловых функций.
Для жанра литературной сказки характерно активное использование нейтральной лексики и элементов разговорного стиля. Отметим, что в сказке Шарля Перро «Riquet à la houppe» герои часто изъясняются «высоким стилем», который, однако, не всегда корректно передается в переводе. Рассмотрим эти стилистические особенности подробнее, на примере диалогов главных героев во время первой и второй встречи.
Первое знакомство принца Рикки с красавицей-принцессой происходит в лесу, куда девушка отправляется, чтобы «поплакать о своем несчастье». В оригинале сказки Перро подчеркивает, что принц вежливо представился, сделал комплементы, но поскольку принцесса оставалась грустной, решил расспросить ее о причинах этой грусти (пример 13):
– Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous l’êtes peut être aussi triste que vous le paraissez; car, quoique je puisse me vanter d’avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que je n’en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre.
– Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse; et en demeura là.
– J’aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous et avoir de l’esprit, que d’avoir de la beauté comme j’en ai, et être bête autant que je le suis.
– Il n’y a rien, madame, qui marque davantage qu’on a de l’esprit, que de croire n’en pas avoir, et il est de la nature de ce bien-là, que plus on en a, plus on croit en manquer.
– Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête, et c’est de là que vient le chagrin qui me tue (Perrault, 1968:101-102).
Эта вежливая беседа в переводе Г. Шалаевой передана следующим образом:
-
- О чем может грустить такая прекрасная особа?
-
- Я сама не знаю, - ответила глупая принцесса.
-
- Красота – это такое великое достоинство, - заметил Рикки, - что тому, кто обладает им, не о чем горевать!
-
- Лучше бы я была уродлива, чем глупа как пробка, - сказала принцесса.
-
- Я вижу, сударыня, что вы, наоборот, чрезвычайно умны. Ведь только умный человек может признаться, что он не всезнайка.
-
- Этого я не знаю, - сказала принцесса, - я только знаю, что очень глупа, и это сильно огорчает меня, делая самой несчастной на свете!
Следующая встреча главных героев происходит через год. Принцесса, получив ум, сразу забыла обо всех глупостях, в том числе – о данном обещании выйти замуж за принца Рикки. Она пытается вежливо отказать ему (пример 14):
-
– Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre.
– Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n’ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez.
– Vous m’étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe.
– Je le crois, dit la princesse, et assurément si j’avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n’a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m’épousiez, puisque vous me l’avez promis; mais comme celui à qui je parle est l’homme du monde qui a le plus d’esprit, je suis sûre qu’il entendra raison. Vous savez que, quand je n’étais qu’une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser; comment voulez-vous qu’ayant l’esprit que vous m’avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n’étais, je prenne aujourd’hui une résolution que je n’ai pu prendre dans ce temps-là? Si vous pensiez tout de bon à m’épouser, vous avez eu grand tort de m’ôter ma bêtise, et de me faire voir plus clair que je ne voyais.
– Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n’en use pas de même, dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l’esprit soient d’une pire condition que ceux qui n’en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d’en avoir? (Perrault, 1968:106108).
В переводе Г. Шалаевой данный диалог выглядит так:
-
- Принцесса, вы сделали меня счастливейшим человеком на свете. Я пришел сдержать свое слово. И надеюсь, вы тоже пришли сюда, чтобы сдержать свою клятву и стать моей женой.
-
- Если откровенно, это не так, - ответила принцесса. – Если бы я имела дело с дураком, я бы ответила вам довольно мягко и туманно, но с вами я должна быть честна. Я не хочу выходить за вас замуж и не захочу никогда.
-
- Вы смущаете меня, сударыня, - сказал Рикки.
-
- Даже дураку понятно, что принцесса должна держать свое слово, -перебила его красавица. – Но вспомните, ведь клятву вам давала набитая дура, а я умна и не должна быть в ответе за клятву глупцов.
-
- Сударыня, - спешил с ответом Рикки, - вы сказали, что только глупец может попрекнуть вас изменой. Но ответьте мне, могу ли я удержаться от упреков, когда речь идет о счастье всей моей жизни? Справедливо ли требовать, чтобы умные люди терпели больше дураков?
У Шарля Перро речь принца наполнена вежливыми речевыми оборотами и формами обращения, принятыми в высшем обществе. Он изъясняется высоким стилем, делает комплименты красоте принцессы и хочет избавить красавицу от огорчений. Во время второй встречи Рикки выглядит как принц, который собирается жениться, он по-прежнему учтив, галантен и полон надежд стать самым счастливым среди людей.
Текст перевода насыщен словами со сниженной стилистической окраской: «уродина», «глупа как пробка», «всезнайка». Обычно переводчик стремится максимально приблизить речь персонажей к реальности, но в данном случае выражения, которые использует в речи принцесса, едва ли можно назвать вежливыми и подходящими для светской беседы: «если б я имела дело с дураком», «дураку понятно». Автор применяет лексику, не характерную для аристократов и мало подходящую для объяснения в чувствах. Принцесса выглядит уже не просто глупой, а грубой и некультурной. Изменение стилистической окраски переводимых единиц искажает образ персонажа в целом. Можно сказать, что переводчик не сохраняет стилистическую окраску текста в первом случае и некорректно передает ее с помощью компенсации во втором случае.
В результате анализа перевода, выполненного Г. Шалаевой, были выявлены очевидные различия между текстом оригинала и перевода.
Авторский перевод отличается большим количеством просторечной лексики и даже сниженной, слабо приближающей читателей к описываемым событиям. Достичь эффекта речи, происходящей в реальности, переводчику не удалось. Семантическая эквивалентность исходного и переводного текста очень низкая. Стилистическое своеобразие подлинника передано плохо.
Лексические и грамматические трансформации не всегда оправданны. О тождественности восприятия говорить также не приходится.
Рассмотрим еще один перевод сказки Шарля Перро «Riquet à la houppe», выполненный И. Тургеневым.
В первом абзаце, повествующем о рождении принца Рике, мы видим членение предложения (пример 15):
Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu’il ne laisserait pas d’être aimable, parce qu’il aurait beaucoup d’esprit; elle ajouta même qu’il pourrait, en vertu du don qu’elle venait de lui faire, donner autant d’esprit qu’il en aurait à la personne qu’il aimerait le mieux (Perrault, 1968:97).
Волшебница, которая находилась при его рождении, заверила, что он будет очень умен. Она прибавила даже, что силою ее чародейства, он будет сообщать свой ум всякому, кого крепко полюбит.
Исходное предложение в переводе И. Тургенева поделено на две части, возможно, для удобства восприятия читателями.
Прием конкретизации наблюдаем при описании рождения принцесс (пример 16):
La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n’aurait point d’esprit, et qu’elle serait aussi stupide qu’elle était belle (Perrault, 1968:98).
Та самая волшебница, которая находилась при рождении маленького Хохлика, присутствовала и здесь, и, чтобы умерить радость королевы, объявила, что новорожденной принцессе бог не дал разума и что она будет столь же глупа, сколько хороша.
У Шарля Перро не объясняется, почему именно у старшей принцессы не будет ума, в авторском же переводе конкретизируется, что это «Бог» не дал ей разума.
Далее в тексте видим использование переводчиком приема объединения предложения (пример 17):
Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l’âge. La cadette enlaidissait à vue d’oeil, et l’aînée devenait plus stupide de jour en jour (Perrault, 1968:99).
Правда, что с возрастом увеличивались и их недостатки: младшая дурнела с каждой минутой, а старшая с каждым часом становилась все глупее и глупее.
Применяет переводчик также приемы добавления и опущения (пример 18):
La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient.
– C’est, madame, lui répondit le plus apparent de la bande, pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces se feront demain (Perrault, 1968:105).
Принцесса, удивленная этим зрелищем, спросила их, для кого они подняли такую возню?
-
- Для принца Хохлика.
Исходный текст сказки Шарля Перро не содержит выражения «такую возню», его добавляет И. Тургенев при переводе. При этом оригинал текста имеет пояснение, из которого следует, что приготовления делаются для принца Рике, «чья свадьба будет завтра» - в авторском переводе И. Тургенева данное уточнение опущено.
Прием целостного преобразования мы видим при переводе И. Тургеневым диалогов принца и принцессы во время их первой и второй встречи (примеры 19-20):
Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu’elle était fortmélancolique, il lui dit :
– Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous l’êtes peut être aussi triste que vous le paraissez; car, quoique je puisse me vanter d’avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que je n’en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre.
– Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse; et en demeura là.
– J’aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous et avoir de l’esprit, que d’avoir de la beauté comme j’en ai, et être bête autant que je le suis (Perrault, 1968:100-101).
Поздоровавшись как следует, он заметил, что принцесса печальна, и говорит:
-
- Не понимаю, сударыня, как такая прекрасная особа может находиться в такой задумчивости, ибо хотя я могу похвалиться, что видел множество прекрасных особ, однако обязан сказать, что никогда не видел такой красоты, какова ваша.
-
- Какой вы комплиментщик, сударь! – отвечала принцесса, да на том и остановилась.
-
- Красота, - продолжал Хохлик, - есть такое великое достоинство, что она должна заменять все, и кто красотою обладает, тот не может, по моему мнению, ни о чем горевать.
-
- Лучше я была бы, - говорит принцесса, - такой же урод, как вы, да имела бы ум, чем с моею красотою да быть такой дурой.
Вторая встреча происходит год спустя. Принцесса, забывшая о данном обещании, не хочет выходить замуж за принца Рике и пытается ему отказать.
– Je le crois, dit la princesse, et assurément si j’avais affaire à un brutal, à un homme sansesprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n’a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m’épousiez, puisque vous me l’avez promis; mais comme celui à qui je parle est l’homme du monde qui a le plus d’esprit, je suis sûre qu’il entendra raison. Vous savez que, quand je n’étais qu’une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser; comment voulez-vous qu’ayant l’esprit que vous m’avez donné, qui me rend encore plus difficile en gens que je n’étais, je prenne aujourd’hui une résolution que je n’ai pu prendre dans ce temps-là? Si vous pensiez tout de bon à m’épouser, vous avez eu grand tort de m’ôter ma bêtise, et de me faire voir plus clair que je ne voyais.
– Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n’en use pas de même, dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l’esprit soient d’une pire condition que ceux qui n’en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui aveztant souhaité d’en avoir? (Perrault, 1968:106108).
-
- Верю, - отвечала принцесса, - и, без сомнения, имей я дело с нахалом или с дураком, я находилась бы в очень затруднительном положении. Он сказал бы мне, что принцесса должна держать свое слово и что так как я слово дала, то и выйти за него должна. Но как я говорю с самым умным человеком в свете, то уверена, что он примет мои резоны. Вам известно, что я не решалась выйти за вас даже тогда, когда была набитой дурой. Как же вы хотите, чтобы, получив от вас ум, сделавший меня еще разборчивее прежнего, я приняла теперь решение, которого избегала прежде? Если вы так дорожите этою женитьбою, вы напрасно избавили меня от глупости и открыли мне глаза.
-
- Если бы даже дураку, - отвечал Хохлик, - было позволительно, как вы сейчас изволили заметить, попрекнуть вас изменой, то как же вы хотите, сударыня, чтоб я удержался от упреков, когда дело идет о счастье всей жизни? Справедливо ли требовать, чтоб умные люди терпели больше дураков? Можете ли вы утверждать это, вы, особа умная и столь желавшая поумнеть?
Проведенный анализ позволяет выявить очевидные различия в авторском и переводном тексте . З начительно отличается и стилистическая окраска двух вариантов изложения сюжета. Текст сказки Шарля Перро не содержит слов с ярко выраженной экспрессивной окраской, герои сказки изъясняются в нейтральных выражениях или же в подчеркнуто любезных (то есть, высоким стилем). Текст перевода содержит неологизмы («комплиментщик»), слова со сниженной стилистической окраской («набитая дура», «дурак», «нахал») и просторечия («свела знакомство», «пойти замуж», «как так?»). Кроме того, в переводе И. Тургенева присутствуют устаревшие слова и выражения: «подседали», «усиливаясь понравиться», «сведав» и т. д. Переводчик также в устаревшей манере использует слово «да» в значении «и» («…да имела бы ум, чем с моею красотою да быть такой дурой») и добавляет не типичные для французской литературной сказки обороты: «гуляет она, думает свою думу... только вдруг слышит…»). Возможно, использование устаревшей лексики и смешение стилей продиктовано стремлением автора привнести в текст элементы повествовательности и придать тексту дополнительную образность.
В целом перевод сказки «Riquet à la houppe», выполненный И. Тургеневым, можно признать довольно полно соответствующим оригиналу. Переводчик сохранил эмоционально-смысловую суть произведения Шарля Перро, использование тех или иных видов переводческих трансформаций практически всегда оправданно, преобразования произведены корректно и могут рассматриваться как адекватные.
Анализ переводов А. Федорова, Г. Шалаевой и И. Тургенева показал, что исходный текст неизбежно подвергается интерпретации, и потому переводной текст не тождественен оригиналу. Происходит это не только от различия двух языков, но и в силу не тождественности смысла, вкладываемого в сообщение автором, и смысла, который извлекается переводчиком. При этом задача переводчика – сохранение эмоциональносмысловой доминанты, вложенной в исходный текст автором, стремление к адекватности и максимально возможной эквивалентности перевода.
Сопоставляя оригинал сказки Шарля Перро «Riquet à la houppe» и различные варианты его перевода, мы попытались показать своеобразный внутренний механизм перевода, выявить произведенные преобразования. Особое внимание при этом было уделено лексическим и грамматическим переводческим трансформациям.
Список литературы Особенности использования трансформаций при переводе сказки Шарля Перро "Рике с хохолком"
- Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Международные отношения, - 1974. - 216 с.
- Perrault Ch. Contes de ma mère l'Oye // La bibliothèque électronique du Québec, collection À tous les vents, volume 61: version 1.02. - 1968. - 135.