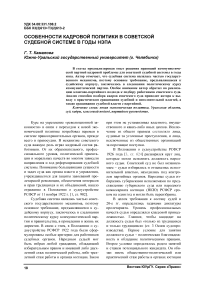Особенности кадровой политики в советской судебной системе в годы НЭПа
Автор: Камалова Галина Тимофеевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 4 т.13, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирован опыт решения правящей коммунистической партией кадровой проблемы для советской судебной системы в годы нэпа. Автор отмечает, что судебная система являлась частью государственного механизма, поэтому основное требование, предъявлявшееся к судейскому корпусу, заключалось в следовании политическому курсу коммунистической партии. Особое внимание автор обратил на реализацию классово-партийного подхода к подбору работников советского суда. Анализ способов подбора кадров советского суда приводит автора к выводу о практическом сращивании судебной и исполнительной властей, а также сращивании судебной власти с партийной.
Новая экономическая политика, уральская область, суд, кадры, классовый подход, партийное руководство
Короткий адрес: https://sciup.org/147149873
IDR: 147149873 | УДК: 34.08:331.108.2
Текст научной статьи Особенности кадровой политики в советской судебной системе в годы НЭПа
Курс на укрепление «революционной законности» в связи с переходом к новой экономической политике потребовал перемен в системе правоохранительных органов, прежде всего в правосудии. В механизме советского суда важную роль играл кадровый состав работников. От их образовательного, профессионального уровня, политической ориентации и моральных качеств во многом зависели направления и ход реформирования судебной системы. Понимание большевиками сущности и задач суда как органа власти и управления, учреждавшегося для защиты завоеваний пролетарской революции, обеспечения интересов и прав трудящихся и их объединений, нашло отражение в Положении о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 1922 г. [ 1, ст. 902 ] .
Судебная система являлась частью советского государственного механизма, поэтому основное требование, предъявлявшееся к судейскому корпусу, заключалось в следовании политическому курсу коммунистической партии и правительства, в проведении в жизнь их директив. В связи с этим, в Положении о судоустройстве РСФСР 1922 года были сформулированы особые критерии для работников судебных органов. Народным судьей мог быть избран любой гражданин, обладавший избирательным правом и имевший либо двухлетний стаж политической работы, либо трехлетний стаж работы в органах юстиции. Закон при этом не устанавливал властного, имущественного и каких-либо иных цензов. Исключение из общего правила составляли лица, судимые за уголовные преступления, и лица, исключенные из общественных организаций за порочащие поступки.
В Положении о судоустройстве РСФСР 1926 года [ 3, ст. 624 ] расширялся круг лиц, которые могли исполнять должность народного судьи. Советский суд не был независимым – судьи избирались и отзывались исполнительной властью, находились под контролем партийных органов. Народные судьи избирались губернскими исполкомами по представлению губернского суда или народного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР сроком на один год и могли быть переизбраны.
В целом требования к составу судей в 20-е гг. определялись задачами диктатуры пролетариата. Уровень профессиональных качеств судьи определялся классовой принадлежностью. Главное, чтобы кандидат на должность судьи был «только из трудящихся и только трудящимся» (ст. 3 Основ судопроизводства). Первое условие для занятия должности судьи – политическая благонадежность и обладание политическими правами. Второе условие определялось родом занятий и стажем потенциального кандидата. Он обязан иметь общественно-политический или практический стаж работы в органах юстиции или государственных органах [3, ст. 624].
После административно-территориальной реформы, более известной как районирование, была образована Уральская область. ВЦИК и СНК РСФСР законодательно определили структуру судебных органов в Уральской области и их состав [ 2, ст. 194 ] . 4 января 1924 г. Уральский обком РКП (б) специальным циркуляром констатировал, что назначение и перемещение народных судей должны производиться только через областной исполком советов после согласования с окружными комитетами партии [ 4, л. 20 ] . Позднее порядок, установленный для Уральской области, нашел законодательное оформление в Положении о судопроизводстве РСФСР» от 19 ноября 1926 г.
По Уральской области рост партийности среди судей в 1928 году по сравнению с 1927 годом составил 12,8 % (т.е. темпы роста в регионе в 5,6 раза выше, чем по РСФСР в целом). Действительно, в 1926 году численность коммунистов в составе суда Уральской области составляла 80 %; в 1927 году – 84,2 %, 1928 году – 85,9 %. К 1929 году в составе народных судов области коммунисты составляли 92,5 %, а в окружных - 98,6 % [ 6, с. 4 ] . На наш взгляд, низкий уровень образования и квалификации, рабоче-крестьянский состав большинства кандидатов делали партийность не только главным, но подчас и единственным критерием при отборе на должность судьи.
Удельный вес коммунистов среди сотрудников органов юстиции был намного выше, чем в отраслях народного хозяйства и в других учреждениях советской власти. По официальным данным на 1 июля 1925 г. коллегия НКЮ РСФСР полностью состояла из коммунистов. Членами партии были 87,5 % заведующих отделами, их заместителей и помощников, 98,1 % председателей губернских, областных и краевых судов, 97,1 % их заместителей, 87,4 % членов судов [ 4, с. 154 ] . На XV съезде партии С. Орджоникидзе имел все основания сказать: «Соваппарат в наших руках..., он наш аппарат» [ 7, с. 155 ] . Это свидетельствует о том большом значении, которое придавалось суду как органу диктатуры пролетариата.
Изменения в социальном составе в различных подразделениях судебных органов Уральской области к концу 20-х гг. носили однонаправленный с РСФСР характер. На 1 января 1929 г. по социальному происхождению рабочие в областном суде составляли 14,3 %, в окружных судах – 36 %, в народных судах – 27 %. В судебной системе РСФСР в этот период рабочие в среднем составляли 36 %, т.е. окружные суды Урала по этой норме соответствовали республиканскому уровню. Крестьяне в областном суде составляли 14,3 %, в окружных судах – 14 %, в народных – 27 %; служащие – соответственно 71,4 %, 28,8 % и 37 % [ 6, л. 6 ] . Председатель Уральского областного суда, отмечая высокий процент рабочих и крестьян среди судей, подчеркивал, что «они не могут похвалиться юридическими познаниями, но зато являются носителями классовой пролетарской правды. Юридические знания приобретаются на опыте, практически» [ 6, с. 4 ] .
Состояние кадров работников судебных органов Уральской области на протяжении 20-х гг. характеризовалось высокой текучестью. Сменяемость судебно-следственных работников была неодинаковой по годам, округам и структурным подразделениям суда. Анализ архивных материалов выявляет рост текучести судейских кадров на Урале, причем процент сменяемости судей в регионе был значительно выше, чем по РСФСР в целом. Так, в Шадринском округе в 1925–1926 гг. текучесть кадров в судебно-следственных участках, т.е. в низовых структурах, составляла 84,5 %, что, как отмечалось судебнокассационной сессией, вело к нарушению правильной работы. Среди народных судей округа в октябре 1926–марте 1927 гг. текучесть была 60 %, а в 1929 году в Шадринском округе отмечено 100 % обновление судейского аппарата. На наш взгляд, в округах с преимущественно аграрным населением в условиях осуществления сплошной коллективизации высокая текучесть среди низового звена судебно-следственного аппарата в определенной степени являлась формой протеста против произвола. Подтверждением этого вывода служат показатели и Курганского округа. В округе только в первой половине 1926 года сменилось три уполномоченных областного суда; за 1929 год из 19 уполномоченных сменилось 14 (т.е. 73,7 % от всех). Текучесть ответственных работников в округе в 1927 году составила 51 % от их общего количества. В 1928 году сменилось 52,6 % народных судей, 87 % судебных исполнителей [4, д. 297, л. 26].
Текучесть судебных кадров наносила значительный ущерб системе правосудия страны. В судебной практике, как и в иных сферах, опыт может заменить недостаток формального образования. Но высокий уровень текучести кадров приводил к тому, что большинство советских судебных работников оказалось и без образования, и без опыта.
Нельзя сказать, что высокая текучесть судейских кадров не беспокоила руководящие партийные и государственные органы. Они пытались выявить причины текучести судебно-следственных работников и принять меры по сокращению и преодолению ее негативных последствий. Следует отметить изменения в расстановке акцентов при анализе причин сменяемости кадров. Так, Курганский окружной комитет ВКП (б) во второй половине 1926 года среди причин увольнения судей выделял следующие: непригодность выдвиженцев к работе (66,6 % от всех уволенных); привлечение к уголовной ответственности за халатность (16,7 %); перевод на другую работу (16,7 %) [ 4, д. 132, л. 199 ] .
К концу 1920-х гг. при сохранении причин текучести неполитического характера возрастает такой мотив, как дискредитация Советской власти. Текучесть среди судейских работников нередко была связана с низкой заработной платой. Низкий уровень заработной платы вел не только к текучести, но и к должностным преступлениям, наиболее распространенными из которых были взяточничество и растраты государственных средств. Так, Уполномоченный областного суда по Курганскому округу в 1925 году был снят с должности за то, что «в пользовании его тестя в течение двух лет находилось вещественное доказательство – лошадь, о чем Уполномоченный не мог не знать» [ 4, д. 1058, л. 62 ] .
Острота проблемы квалифицированных кадров в области юстиции была связана во многом с состоянием юридического образования в Советской России. В 20-е гг. в РСФСР ежегодно готовилось всего 500 юристов [7, с. 138], хотя система технического образования развивалась очень динамично. Это связано с отношением большевиков к сфере государственного управления, где считалось достаточным политической преданности и революционного сознания.
Сокращение подготовки юристов и использование немногих профессионалов в областях, далеких от права, привело и к тому, что к концу 1920-х гг. значительно снизился и без того невысокий профессиональнообразовательных ценз судей и прокуроров. В 1926 году по РСФСР из 64 председателей областных судов высшее образование имели всего девять человек (14 % от всех), остальные - среднее, начальное и домашнее [ 11 , с. 161, 162 ] . В 1927 году образовательный уровень губернских и областных судов РСФСР был следующим: среди председателей и их заместителей доля с низшим образованием составляла 72 %, среди членов судов – 62 %. Вместе с тем надо отметить, что все-таки 8 % председателей и их заместителей областных судов республики имели высшее образование и 17 % членов судов [ 8, с. 1042 ] . Они сосредоточивались в основном в Москве и областных центрах. По СССР число прокуроров с высшим образованием снизилось с 29 % в 1923 году до 11–12 % в начале 30-х гг. (т.е. в 2,4 раза); народных судей с 8,4 % до 4,2 % (т.е. в 2 раза). К 1935 году 84,6 % всех народных судей имели только начальное образование.
Это характерно и для народных судей Уральской области. Доля народных судей в округах области, имевших низшее образование, колебалась от 78,6 % в Кунгурском округе, 78,9 % – в Верхне-Камском до 83 % – в Пермском округе [ 5, д. 21, л. 139; д. 36, л. 25 ] . В Курганском и Шадринском округах уровень образования народных судей на протяжении 1921–1929 гг. оставался чрезвычайно низким – 94,5 % состава имели низшее образование. Профессиональных юристов в их составе практически не было. В графе анкеты «основная профессия до судебной работы» судьи указывали: хлебопашец, письмоводитель, рабочий, маслодел, плотник, маляр, отсутствие основной работы и т.д. [ 4, д. 132, л. 200 ] .
Вместе с тем надо иметь в виду, что в 20-е гг. советские руководители относились к низкому уровню образования кадров юстиции как к чему-то обычному и энергичных мер к преодолению этого недостатка не принимали. Работа судей считалось удовлетворительной, пока они выполняли элементарные требования. Именно это имел в виду С. Орджоникидзе, когда заявил на XV съезде ВКП (б) в декабре 1927 года, что «мы не требуем очень много от нашего суда сегодня» [10, с. 59].
Вместе с тем руководство наркомата юстиции не стремилось превратить судей и следователей в профессиональных юристов. Об этом свидетельствуют выступления на XV съезде ВКП (б) руководящих работников РКИ Н. М. Янсона и А. А. Сольца, которые критиковали советское правосудие за то, что в юстиции появился «некоторый профессиональный юридический уклон» [ 9, с. 96 ] .
Кадровая политика Советского государства в отношении судебных работников была направлена на привлечение в состав суда «политически благонадежных» представителей рабоче-крестьянских слоев населения. Большевики отстранили от судебной работы профессиональных юристов, работавших до революции, в связи с чем были вынуждены привлекать к судебной работе лиц, у которых не было специального образования. Большинство работников системы правосудия имели лишь низшее образование. Недостаток образования и профессиональной подготовки компенсировался рабоче-крестьянским происхождением, принадлежностью к коммунистической партии и революционным правосознанием. Способы подбора, расстановки судебных работников во всех структурных подразделениях системы советского суда на глядно свидетельствуют о практическом сращивании в 20-е гг. судебной и исполнительной властей, а также сращивании судебной власти с партийной.
Список литературы Особенности кадровой политики в советской судебной системе в годы НЭПа
- Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, издаваемое народным комиссариатом юстиции (СУ РСФСР). -1922. -№ 69.
- СУ РСФСР. -1924. -№ 20.
- СУ РСФСР. -1926. -№ 85.
- Государственный архив общественно-политической документации (ГА ОПДКО) Ф. 7. Оп. 1. Д. 2.
- Государственный архив Пермской области (ГАПО) Ф. Р. 127. Оп. 1. Д. 21. Л. 139; Д. 36.
- Инструктивный доклад Уральского областного суда о работе судебных органов Уральской области за 1926-1927 гг. -Свердловск, 1927. -43 с.
- Гимпельсон, Е. Г. НЭП и советская политическая система. 20-е годы/Е. Г. Гимпельсон. -М.: ИРИ РАН, 2000. -423 с.
- Еженедельник советской юстиции. -М., 1927. -№ 34.
- Курицын, В. М. Переход к НЭПу и революционная законность/В. М. Курицын. -М.: Наука, 1972. -215 с.
- Формирование административнокомандной системы. 20-30-е годы. -М.: Высшая школа, 1992. -235 с.
- Соломон, П. Советская юстиция при Сталине/П. Соломон. -М.: РОССПЭН, 1998. -464 с.