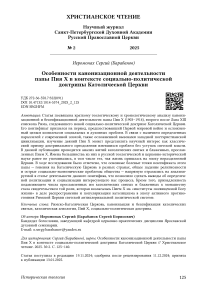Особенности канонизационной деятельности папы Пия X в контексте социально- политической доктрины Католической Церкви
Автор: Иеромонах Сергий (Барабанов)
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена краткому теологическому и хронологическому анализу канонизационной и беатификационной деятельности папы Пия X (1903–1914), второго после Льва XIII епископа Рима, следовавшего новой социальнополитической доктрине Католической Церкви. Его понтификат пришелся на период, предшествовавший Первой мировой вой не и осложненный целым комплексом социальных и духовных проблем. В связи с наличием определенных параллелей с современной эпохой, также осложненной вызовами западной постхристианской цивилизации, изучение деяний Пия X может представлять научный интерес как классический пример доктринального преодоления имевшихся проблем без уступок светской власти. В данной публикации проводится анализ житий католических святых и блаженных, прославленных Пием X. Имена большинства из них в русской теологической и церковноисторической науке ранее не упоминались, в том числе тех, чья жизнь пришлась на эпоху неразделенной Церкви. В ходе исследования было отмечено, что основные болевые точки понтификата этого папы — гонения на Католическую Церковь в разных странах, общее падение религиозности и острые социальноэкономические проблемы общества — напрямую отразились на анализируемой в статье деятельности данного понтифика, что позволило сделать выводы об определенной политизации и социализации интересующего нас процесса. Кроме того, принадлежность подавляющего числа прославленных им католических святых и блаженных к монашеству стала свидетельством той роли, которая возлагалась Пием X на «институты посвященной Богу жизни» в деле распространения и популяризации католицизма в эпоху активного противостояния Римской Церкви светской антиклерикальной политической системе.
Римско- Католическая Церковь, канонизация и беатификация католических святых, католическая агиология, Пий X, социально- политическая доктрина
Короткий адрес: https://sciup.org/140309605
IDR: 140309605 | УДК: 272-36-558.7:322(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_125
Текст научной статьи Особенности канонизационной деятельности папы Пия X в контексте социально- политической доктрины Католической Церкви
Анализ западной житийной литературы, относящейся к конкретным историческим эпохам Римской Церкви, может представлять научный интерес по целому ряду причин. В первую очередь потому, что «многие аспекты... истории и теологии православия и католицизма имеют общие истоки». Во-вторых, практически не знакомая отечественной богословской мысли католическая агиология способна «обогатить наш кругозор и разрушить ряд стереотипов, связанных с присущим православной стороне недоверием к западной духовно-религиозной практике в целом» [Сергий Барабанов, 2022, 116].
С другой стороны, изучение этой части мирового христианского наследия позволяет объективней оценить глубинные религиозно-философские причины про-зелитического характера латинского миссионерства, побуждающего проповедников католицизма стремиться на территории, исторически не относящиеся к канонической ответственности Римско-Католической Церкви. Поэтому исследование интересующего нас вопроса дает возможность более предметно проанализировать ту или иную эпоху ее онтогенеза.
В связи с нарастанием военной напряженности в современном мире и агрессивными нападками западной цивилизации на общехристианские нравственные ценности в статье анализируется деятельность одного из понтификов нач. XX в. — папы Римского Пия X1, чей понтификат, продолжавшийся с 1903 по 1914 гг., пришелся на очень схожий с существующим период, осложненный началом крупномасштабных военных действий, массовой секуляризацией общества и распространением идей модернизма в разных сферах человеческой жизни.
Учитывая слабую освещенность интересующего нас вопроса в отечественной теологической науке, поднимаемая проблематика может иметь свое практическое значение, так как, кроме ряда кратких публикаций и энциклопедических статей, об этом папе не имеется трудов, отдельно посвященных деятельности данного понтифика2, вначале воспринимавшегося не столь ярко, как его предшественник Лев XIII, «на которого в силу его возраста с почтительностью смотрел весь мир» [Romanato, 2014, 361].
В то же время консервативная линия Пия X и предпринимавшиеся им усилия для стабилизации положения Римской Церкви, когда мировые «правительства и общественные силы были для нее. врагами» [Romanato, 2014, 376], делают его понтификат классическим примером доктринального преодоления имевшихся проблем, а не их решения через уступки светской власти3. Так, западный церковный историк
Poже Обер писал: «Заняв позицию защитника католической веры… Пий X стремился рассматривать все проблемы… исключительно под религиозным углом зрения» и, в отличие от своего предшественника, не имел «склонности к дипломатической деятельности» [Обер, 1977, 35–36]. Поэтому именно магистериум и традиционные формы выражения доктрины, в том числе прославление новых католических святых и блаженных, стали основным фоном звучания папского Рима в предвоенном социуме нач. XX в.
Другая часть европейских авторов упрекала папу Сарто в ультраинтегризме и борьбе с «ядом… новой ереси» авторитарно-репрессивными методами (см. подр.: [Hasler, 1981, 209–214]), что делает изучение понтификата Пия X не менее интересным.
Также стоит отметить, что в результате реформ в литургической сфере4, осуществленных этим папой и в какой-то мере поколебавших привычные для того времени формы западного благочестия, изменения коснулись и места праздников святых из-за повышения статуса воскресного дня. Отчасти это стало следствием личных взглядов данного понтифика, имевшего многолетний опыт приходского служения и сталкивавшегося с гипертрофированными формами католического культа святых [Bondione, 2012, 12]. С другой стороны, эти изменения стали следствием утраты папством двойственной природы, так как существовавшие до 1870 г. «суверенитет духовный в сочетании с суверенитетом светским делали любую реформу невозможной» [Romanato, 2014, 444].
Однако имевшиеся в Римской Церкви внутренние и внешние проблемы определяли свою стратегию в духовном руководстве паствой, видевшей в святых примеры крепкой веры и приверженности католицизму. Поэтому, несмотря на реформы, в составленном Пием X «Catechismo Maggiore» говорилось о том, что «молиться святым — это очень полезное дело, которое должен делать каждый христианин» (пункт 339) (Catechismo Maggiore, 2022, 92). В результате за 11 лет своего понтификата Пий X канонизировал 4 новых святых и беатифицировал 74 католических блаженных. Кроме того, он разрешил общецерковное почитание 54 ранее местночтимых западных подвижников, о значительной части которых также будет упомянуто в данной публикации5.
В условиях предвоенной эпохи и новой социально-политической доктрины прославление большинства этих лиц осуществлялось в контексте как традиционных христианских ценностей — аскезы, социальной работы, миротворчества и твердости в вере, так и чисто политических причин, связанных с миссионерством и ответом светской антиклерикальной политической системе. Поэтому особое внимание уделялось авангарду Римской Церкви в лице монашествующих — «драгоценных сотрудников в священном служении, в преподавании, в образовании и в делах христианского милосердия» (Vehementer Nos, 2006, 161), что позволяет сделать выводы о явной социально-политической мотивации анализируемого нами процесса. Насколько это соответствует действительности, позволит судить анализ житийных биографий.
Так, первой канонизацией нового понтифика стало прославление в лике святых корсиканского епископа-варнавита6 Александра Саули (1534–1592), духовного наставника архиепископа Милана Карло Борромео. Принеся вечные обеты в 17 лет, в 33 года он уже стал генеральным настоятелем ордена, к которому принадлежал. Во время голода 1579 г., когда светские власти оказались бессильными перед гуманитарной катастрофой, епископ на занятые им деньги довольно долго кормил массу обездоленных, за что был прозван «апостолом Корсики». А во время чумы, поразившей корсиканцев в следующем году, он организовывал карантинно-cанитарные пункты. Будучи переведенным на материк, он продолжил свою социальную работу среди бедных в Павии, параллельно примиряя враждующие кланы и предотвращая вендетту [Luzi, 2014, 987]7.
В контексте борьбы с модернизмом и с несоответствием католических клириков духовно-нравственным идеалам в том же 1904 г. Пий X утвердил общецерковное почитание прежде местночтимого в Ломбардии мученика диакона Ариальда, пострадавшего в результате заговора аристократии и клира за обвинение миланского духовенства в симонии и в аморальном образе жизни8. За принадлежность к движению патарии, с разрешения еп. Гвидо да Велате он был ослеплен двумя священниками, надругавшимися над его телом и утопившими его в озере Лаго ди Маджоре9. Необходимо отметить, что столь жестокая расправа над Ариальдом стала следствием его открытых выступлений против светской королевской инвеституры, независимости Миланской Церкви от папского Рима и критики брака духовенства на фоне проповеди целибата, за что тот получил поддержку от будущего папы Григория VII Гильдебрандта.
В мае 1909 г. Пий X канонизировал священника-редемпториста Клеменса Марию Хофбауэра (1751–1820)10, ранее беатифицированного Львом XIII. Противостоя идеям иосифизма и галликанства, преследовавшим цели создания национальных Церквей и вывода их из-под власти папского Рима, данная фигура сыграла весьма важную роль в реанимации и поддержании идей ультрамонтанства не только в Австрии, где Хофбауэр родился и вырос, но и в Германии и Италии, где он учился и жил отшельником, и в Польше, которую он познакомил с идеями своего ордена11. Именно благодаря ему
Конгрегация Святейшего Искупителя распространилась за пределы Альп, что делает его вторым после Альфонсо де Лигуори духовным лидером редемптористов.
Необходимо отметить, что деятельность Хофбауэра в Польше продолжалась более 20 лет. После ее оккупации войсками Наполеона в 1808 г. редемптористы были изгнаны и Хофбауэр переселился в Вену, где встал в оппозицию имперской власти Иосифа II, пытавшегося подчинить австрийских католиков своей короне. Чтобы в полной мере осознать упорность Хофбауэра в этом процессе, уместно привести слова папы Пия VII, сказанные им при получении известия о смерти Хофбауэра в 1820 г.: «Теперь религия в Австрии потеряла свою главную опору» [Luzi, 2014, 265].
Кроме того, в житии Хофбауэра описан ряд случаев, которые могут быть интересны православной аудитории как примеры целеустремленности и верности обетам. Например, лично собирая пожертвования на открывавшийся в Варшаве орденский приют, Хофбауэр обратился к игравшему в карты человеку, который в ответ плюнул ему в лицо. На столь серьезное оскорбление Хофбауэр ответил: «Это для меня. А теперь дайте что-нибудь для моих подопечных» [Luzi, 2014, 265].
Можно предположить, что канонизация Пием X такой личности не только свидетельствовала об отношении данного понтифика к секулярной политической системе, не упускавшей случая ограничить права и свободы папства12, но и дублировала маги-стериум о необходимых качествах священства, которое «не просто какая-либо человеческая профессия…» (Pieni l’animo, 2006, 175).
Кроме того, подготовленная Хофбауэром почва для возвращения редемптористов в Польшу в 1883 г. способствовала проникновению данного ордена и на территорию канонической ответственности Русской Православной Церкви. Учитывая миссионерско-прозелитический потенциал упомянутой конгрегации при столь харизматичном лидере, неудивительно, что представители редемптористов осуществляют свою деятельность в России и в настоящее время, например в Кузбассе и в Поволжье13, как и раньше, принадлежа к варшавской провинции этого ордена. Данные факты придают анализу агиографических сведений о Клеменсе Хофбауэре особую актуальность.
Также стоит отметить, что прославление Хофбауэра в 1909 г. не являлось первой канонизацией редемптористов при Пии X. Так, 11 декабря 1904 г., вместе с еп. Алессандро Саули данный папа канонизировал опять же беатифицированного Львом XIII Герарда Майеллу (1725–1755), «превосходный пример для подражания всем верным» (Haud tenui, 1906, 513), любившего часто каяться и с детства ежедневно посещавшего мессу14. В связи с этим Майела был объявлен покровителем «доброй исповеди», а также беременных и рожениц, буквально — «L’Angelo delle mamme»15.
Несмотря на характерные для католической житийной литературы описания его способности к биолокации, внезапной невидимости, обручения с Мадонной и прочих мистических атрибутов [Vassal, 1915, 12–151], биография этого католического святого также интересна, как и житие Хофбауэра, описанием широкой благотворительности и примерами терпеливого перенесения тяжелых обстоятельств, преодолевая которые, еще в очень молодом возрасте Герард Майелла обрел славу святого. Так, в ночь перед погребением его тела некая женщина, желая иметь себе хоть какую-нибудь реликвию, тайно пришла к гробу Майеллы и вырвала у него зуб, заявив, что святой сам благоволил ей его отдать. Отдельным аргументом для канонизации Майеллы стал его мистицизм, выраженный в «преданности Младенцу Иисусу и Христу в Евхаристии», а также столь характерное для итальянцев сентиментальное почитание Богоматери, в духе которого Майелла говорил: «Дева Мария украла у меня сердце, которое я Ей сам подарил» [Luzi, 2014, 1008].
Также необходимо обратить внимание на яркую личность канонизированного в один день с Клеменсом Хофбауэром свящ. Иосифа (Хосе) Ориола (1650–1702)16, родившегося в семье ткача, едва способного прокормить своих детей. Будучи человеком незнатного происхождения, он сумел закончить Барселонский университет и стать доктором богословия, что свидетельствует о его высоких интеллектуальных способностях. Желая проповедовать католицизм в исламских странах и стать мучеником за веру, он решил укрепиться паломничеством в Рим, по дороге в который заболел и, согласно житию, получил откровение заняться проповедью о Христе сначала «на своем заднем дворе» [Luzi, 2014, 285].
Вернувшись в Барселону, он стал вести жизнь аскета, все свободное от молитвы и богослужений время посвящая социально-миссионерской работе с детьми бедняков и особенно с солдатами. Таким образом, канонизация священника пролетарского происхождения, занимавшегося активной социальной работой в среде простого народа, вновь подчеркивала основной принцип новой социально-политической доктрины Римской Церкви — достижение социальной справедливости без кровавой классовой борьбы.
Даже общецерковное прославление уже почитавшихся с древности отшельников из Галлии Фелиция и его сыновей Симплиция и Потентина17, а также Иоанна, епископа Монтемарано18, Иустуса (Иустина) Кондатского19 и прп. Ромедия20 можно расценить как приверженность Пия X традиционализму, чуждому намека на модернизм и выражавшемуся в стремлении распространить католицизм во всем мире, так как «вне… Апостольской Римской Церкви никто не может спастись, как никто не мог спастись от потопа вне Ноева ковчега, который был прообразом этой Церкви» (Catechismo Maggiore, 2022, 57). Это хорошо прослеживается и в житиях прославленных им католических блаженных.
Например, в декабре 1903 г. Пий X беатифицировал епископа Лозанны Амадея (род. во Франции в 1110 г.), цистерцианского аббата Уго (1120–1194)21 из французского аббатства Боннево в Бургундии, Иоанна Верчельского, а также бенедиктинского аббата Клара из Вьенна (590–660), «настоятеля монастыря св. Марцелла, оставившего своим монахам пример совершенной религиозной жизни» [Martirologio Romano, 2004, 102]22.
Амадей Лозаннский, как и мч. Ариальд, являлся обличителем нравов духовенства своей епархии и наставником молодежи23. Кроме того, он был автором мариологи-ческого трактата, в котором, вопреки своему учителю Бернарду Клервоскому, придерживавшемуся правильных взглядов на принадлежность Пресвятой Богородицы первородному греху, учил в обратном русле24. В 1950 г. это дало повод Пию XII использовать его высказывания при провозглашении мариального псевдодогмата о телесном вознесении Девы Марии в небесную славу: «Поэтому, исходя из принципа схоластического богословия, благочестивый (pio) Амедео, епископ Лозанны, утверждает, что плоть Девы Марии осталась нетленной; в самом деле, нельзя поверить, чтобы тело Ее увидело тление…» (Munificentissimus Deus, 2002, 1507).
Что касается цистерцианца Уго из Боннево, то основной причиной его беатифика-ции, кроме «героических добродетелей» аскезы и описываемых в житии чудес, стала миротворческая деятельность в конфликте между папой Александром III и императором Фридрихом II Барбароссой [Martirologio Romano, 2004, 296]. За похожие добродетели был прославлен и генеральный настоятель доминиканцев Иоанн из Верчелли (Джованни Гарбелла, 1205–1283)25, который способствовал мирному урегулированию конфликтов между Папским государством и Венецианской республикой, Венецией и Генуей, и между Францией и Кастилией.
Относительно бенедиктинца Клара Вьеннского можно отметить, что поводом для его беатификации послужили глубокие познания в богословии и редкая способность донести теологические знания до любого учащегося. Тогда же был беатифици-рован и Аригий (Арей, 535–604)26, епископ города Гап в Провансе, «известный своим терпением в невзгодах и… рвением против симонии» [Martirologio Romano, 2004, 369].
В 1904 г. за попытку «примирить разлученных христиан с Католической Церковью» Пий X прославил двух капуцинов — Агафангелуса Нурри (Агафангел Вандомский, 1598–1638) и Кассиана Вас Лопес-Нето (1607–1638)27, повешенных на собственной одежде и забитых камнями в эфиопском Гондаре. До этого эти два католических миссионера безуспешно пытались склонить к унии египетских коптов [Martirologio Romano, 2004, 615].
В декабре того же года был беатифицирован Стефано Беллезини (1774–1840), священник-августинец из итальянского Тренто и «martire della carità»28, и подтверждено почитание французского аббата-бенедиктинца Альдрадуса (Эльдрада) из Нова-лезе (†13 марта 842 г.).
Первый умер от холеры, ухаживая за заболевшими прихожанами. После роспуска религиозных орденов он, оставаясь священником, открыл бесплатную школу, где практически на полном пансионе обучалось около 500 детей из малоимущих семей. Его усилия настолько впечатлили светские власти, что Стефано Беллезини был назначен генеральным директором всех школ провинции Трентино. Другим поводом для его беатификации стало сентиментальное почитание Богоматери29, что в контексте 50-летия провозглашения догмата о Непорочном зачатии, отмечавшегося в 1904 г., имело свое значение, так как вера во Христа через веру в Деву Марию «не может быть подвергнута сомнению, если принять во внимание… что только Она одна в мире имела с Ним, как подобает матери с сыном, сообщество жизни более 30 лет» (Ad diem illum, 2006, 47).
Что касается Альдрадуса из Новалезе, о котором повествует так называемая «Новалезская хроника»30, то, будучи состоятельным человеком, он потратил все свое богатство на благотворительность, а став аббатом монастыря свв. Петра и Андрея «у подножия Монченизио в Валь-ди-Суза» близ Турина, занимался церковнопевческой деятельностью и построил странноприимный дом с больницей [Martirologio Romano, 2004, 258].
Среди беатифицированных в том же 1904 г. не менее ярко выделяется и персона герцога Шарля (Карла) Блуа (1320–1364). Он также прославился помощью бедным и нуждавшимся, основав несколько благотворительных социально-медицинских учреждений, и проявлял несвойственное для XIV в. сострадание к пленным. Отстаивая свое право на владения, он погиб в одном из сражений: «Близ Ванна… блаженный Карл Блуа, благочестивый, кроткий и смиренный… герцог Бретонский, хотел бы присоединиться к братьям меньшим31, но, вынужденный защищать свое государство… пострадал в долгом заключении и погиб в бою при Одре» [Martirologio Romano, 2004, 766]32.
Также стоит отметить беатификацию одного из критиков итальянского масонства свящ. Гаспаре Буфало (1786–1837)33, «который усердно боролся за свободу Церкви и даже в тюрьме не прекращал своего дела по обращению грешников» [Martirologio Romano, 2004, 971]. Также он основал мужскую Конгрегацию со специфическим названием «Миссионеров Драгоценнейшей Крови Христовой» (С. Р. Р. S.)34 и ее женскую ветвь — «Адораток Крови Христовой» (A. S. C.)35.
В самом начале 1905 г. были объявлены блаженными и мучениками два венгерских иезуита — Иштван Понграч (Stefano Pongracz, 1583–1619) и Мельхиор Гродецкий (Grodziecki, 1584–1619), а также аббат-бенедиктинец Марко Crisino (Марк Крижевча-нин, 1582–1619), казненные кальвинистами в 1619 г. в карпатской Кошице за верность католицизму36.
В том же году Пий X утвердил почитание еще одного францисканца — Христофора Романьелского (Христофор Каорский, 1172–1272)37, ухаживавшего за прокаженными. Кроме того, он прославил простую 18-летнюю девушку Маргариту ла Фьер (Маргарита Лувенская, 1207–1225), хотевшую стать монахиней, но убитую во время ограбления ее дяди-трактирщика в бельгийском Левене38. Притворившись постояльцами, преступники попросили Маргариту купить в городе хорошего вина. Вернувшись, она застала их на месте преступления. Пытаясь ее изнасиловать, грабители перерезали ей горло, а тело, чтобы скрыть следы, утопили в реке Дил. Оттуда, согласно житию, оно было чудесно вытолкнуто на берег большой рыбой39.
По-своему интересно и житие беатифицированного в том же 1905 г. монаха-пассиониста Габриэле делль Аддолората (Франческо Поссенти, 1838–1862)40, «блестящего молодого человека, почти дэнди», являвшегося сторонником сугубого почитания Девы Марии и объявленного после смерти покровителем молодежи. Он умер от туберкулеза, не дожив до 24 лет. Одной из его фраз была: «Я бы не променял и четверти часа, проведенного перед Святейшей Марией, нашей Утешительницей, на год развлечений всего мира» [Luzi, 2014, 210–211]. Интересно отметить, что санктуарий Изола дель Гран Сассо в провинции Терамо, где хранятся его останки, является одним из 15 самых посещаемых католических святилищ мира наряду с Лурдом и Гваделупой. Кроме того, Гавриилу «Скорбящей Богоматери», как мы можем перевести его имя на русский язык, посвящено более тысячи церквей во многих странах41.
Следующий 1906 г. был отмечен прославлением 16 мучениц Компьена42, обезглавленных в 1794 г. в результате террора якобинцев по обвинению в религиозном фанатизме и в организации тайного монастыря. Это в определенной мере роднит их с жертвами сталинских репрессий XX в. После публичной казни на площади de la Nation в Париже их тела были погребены в общей могиле на кладбище Пикпюс43 с телами еще 1298 казненных в те дни французов.
Согласно житию компьенских кармелиток, ставшему на Западе основой для ряда музыкальных и художественных произведений44, осужденные на смерть прибыли на гильотину с пением церковных гимнов, «мелодичный речитатив которого странным образом… выделялся на фоне гомона толпы» [Лефорт, 1931, 45]. Уже в 1802 г. место их погребения превратили в мартирий с церковью Notre Dame de la Paix, т. е. Пресвятой Богородицы Мира.
Здесь необходимо отметить, что причину этой беатификации стоит искать в сложных отношениях Рима с масонским правительством Франции, 9 декабря 1905 г. разорвавшим конкордат с Ватиканом. Это стало основным импульсом для данного прославления, призванного воодушевить католиков этой страны в противостоянии антиклерикальным выпадам властей «Третьей республики», а также призвать их к консолидации и необходимости оставаться «в тесной связи… со своими священниками, епископами и особенно с Апостольским Престолом» (Vehementer Nos, 2006, 170–171).
Так, в энциклике «Gravissimo officii» от 10 августа 1906 г. Пий X писал, что если «французские католики… действительно хотят засвидетельствовать Нам о… своей преданности, они должны сражаться за Церковь… с настойчивостью и энергией» (Gravissimo officii, 2006, 188), также призывая их «без страха маршировать» в ее защиту и помнить, что «опыт веков свидетельствует о том», что Иисус ее не оставит (Vehementer Nos, 2006, 165–171).
Эта и другие беатификации также стали способом привлечения внимания мировой общественности к проблемному положению Католической Церкви во Франции, получившей «столько страшных и многочисленных ран… наносимых государственными властями религии» (Vehementer Nos, 2006, 135). Поэтому Пий X беатифицировал целый ряд этнических французов, само число которых свидетельствует о несомненной политической подоплеке действий этого папы.
Так, в кризисном для французских католиков 1905 г. был беатифицирован «кюре из Арса» Жан Батист Вианней (1786–1859, память 4 августа), заслуживающий отдельной публикации. Еще одной беатифицированной француженкой в то же время стала мон. Мадлен Софи Барат (1779–1865), основательница Общества Святого Сердца, своего рода женской ветви иезуитов. Ее довольно инновационные для 1-й пол. XIX в. педагогические начинания, связанные с образованием девушек по образцу мужских гимназий, способствовали распространению основанного ею ордена далеко за пределы Франции.
Так, к моменту ее смерти ей подчинялось уже около 3600 монахинь. Стоит также отметить, что Мадлен Барат являлась сторонницей учения о непорочном зачатии Девы Марии и культа Сердца Иисуса, способствуя их популяризации [Luzi, 2014, 518–519]45.
Также нельзя умолчать и о беатификации в 1906 г. основательницы Конгрегации понтификального права Сестер Нотр-Дам де Намюр французской монахини Марии Розы Джулии Биллиарт (1751–1816), также пережившей религиозный террор и противодействие со стороны официальной светской власти. Одной из ее фраз была: «Боже мой, какая, должно быть, радость для души покинуть грязь тела» [Luzi, 2014, 338–340]. Также будучи горячей сторонницей культа Сердца Иисуса, она не менее Мадлен Софи Барат способствовала распространению среди французов этой несвойственной для православия формы католического благочестия, горячим сторонником которого был и Пий X. Интересно также отметить, что основанное ею в 1804 г. монашеское сообщество в настоящее время работает во многих странах мира, специализируясь на католическом миссионерстве и обучении молодежи46.
В 1907 г. Пий X утвердил почитание еще двух франко-галльских подвижников — еп. Вьенского Бернарда (778–842)47, «перешедшего из армии Карла Великого в ополчение Христово» [Martirologio Romano, 2004, 149], и блж. Леониана (500–570), в молодости проданного в рабство в Галлию, после освобождения от которого он еще 40 лет прожил отшельником, собрав множество учеников48.
Тогда же были прославлены тосканский монах Бенедетто Рикасоли (память 20 января), объявленный небесным покровителем земледельцев, и монахиня-августинка Магдалена Альбрицци (1415–1465, память 13 мая), основательница хосписа в итальянском Комо.
Отдельно стоит отметить беатификацию знатной чешки Зедиславы Берка (1220– 1252), матери четверых детей, основавшей доминиканский монастырь и прославившейся своим милосердием к бедным и страждущим. В контексте евхаристической реформы Пия X, предполагавшей частое причащение католиков и более раннее причащение детей, наиболее важной причиной для беатификации этой женщины, объявленной покровительницей «трудных браков» и тех, кто подвергается насмешкам за свое благочестие, стало ее ежедневное причащение, что для XIII в. было исключением из правил49.
Новый 1908 г. вновь открылся беатификацией француженки — мон. Мари Мадлен Постель (1756–1846), основательницы организации «Сестер христианских школ», название которой говорит само за себя, и также испытавшей на себе преследования якобинцев и тяготы Французской революции50.
В мае было официально подтверждено почитание еще одного францисканского терциария — Герарда (Жерара) Каньоли (1267–1342)51, отшельника на Этне.
Последним же в 1908 г. стало прославление фламандского монаха-августинца и мистика Яна ван Рейсбрука (1293–1381)52, автора нескольких произведений против распространенной в Нидерландах пантеистической секты «Братьев и сестер свободного духа», имевших весьма специфические представления о нравственности.
О Яне Рейсбруке также известно, что, достигнув 50-летия, он внезапно оставил престижное место викария собора св. Гудулы в Брюсселе и вместе с двумя единомышленниками поселился в прежде заброшенном приорате Грюнендаль, который стал местом притяжения для ищущих духовного руководства. В этом монастыре Рейсбрук написал свои знаменитые на Западе духовные произведения, практически не известные отечественному читателю, став одним из основоположников национальной нидерландской литературы.
В 1909 г., 18 марта, Пий X беатифицировал кармелита из Мантуи Бартоломео Фанти (1428–1495), сторонника мариальной религиозности53, а также еще одного тер-циария — францисканца Вивальда Стрикчи (1260–1320), жившего в дупле каштана и служившего прокаженным54.
Сам принадлежа к Третьему ордену «меньших братьев», папа старался популяризировать эту специфическую форму католической духовности, имевшую важную социальную составляющую, в связи с чем 18 апреля того же 1909 г. торжественно беатифицировал Жанну д’Арк (1412–1431, память 30 мая) — одну из самых известных и легендарных представительниц французской нации за всю ее историю.
Не останавливаясь на этом, через неделю (25 апреля) папа Пий X провел беатифи-цикацию еще одного француза — свящ. Жана Эвдеса (1601–1680), основателя женского монашеского ордена Богоматери Милосердия и Прибежища.
Получив классическое образование в иезуитском коллегиуме, он прославился служением больным во время чумы и учреждением миссионерской священнической Конгрегации «Иисуса и Марии», более известной как «эвдисты», занимавшейся семинарской подготовкой французского духовенства, «страдавшего двумя язвами того времени: невежеством… и ересью янсенизма». Однако определяющим фактором для его прославления стала приверженность к зародившимся во Франции в XVII в. католическим практикам поклонения Сердцу Иисуса и Сердцу Марии, что нашло отражение в его произведении «Чудесное сердце Божией Матери». В результате Пий X присвоил Эвдесу титул «создателя, учителя и апостола» этого литургического культа [Luzi, 2014, 810–811]55.
В феврале 1910 г. папа повторно утвердил почитание еще одного францисканца, отличавшегося состраданием к бедным, — Джулиано Чезарелло де Валле (†1349, беатифицирован в 1793 г., память 1 мая), а в 1911 г. одобрил литургические памяти монаха-сервита Бонавентуры Торниелли из Форли (1411–1491)56, умершего во время своей проповеди, и отшельника-августинца Иакова Капочи (епископ Неаполитанский Иаков, 1255–1308)57, доктора богословия парижской Сорбонны.
В 1912 г. понтифик санкционировал почитание блж. Сикста Бриоски из Мантуи (1404–1486) — еще одного францисканца, подвиги которого были хорошо известны папе со времен его епископства в этом городе. Поводом для общецерковной беати-фикации fra Sisto стали прославившие его благотворительность, паллиативная работа, поддержка заключенных и борьба с ростовщичеством58. Помимо духовных обязанностей, он также имел обязанность советника герцога Людовико Гонзаго и тем способствовал становлению Мантуи как одного из центров Ренессанса и сохранению ее от претензий могущественных соседей — Милана, Неаполя и Венеции.
Также хотелось бы отметить усилия Пия X по популяризации католицизма в Азии, в контексте чего он совершил беатификацию ряда китайских и вьетнамских мучеников, позже канонизированных Иоанном Павлом II. Так, 2 мая 1909 г. в лике блаженных были прославлены 14 католиков, пострадавших в Китае за приверженность христианству. Это испанский доминиканец Франсиско Фердинандо де Капильяс (1607–1648)59, бывший торговец шелком Иосиф Чанг Дапенг (1754–1815)60, обезглавленные 28 января 1858 г. Агата Линь Чжао (род. 1817), Джером Лу Тинмей (род. 1811) и Лоуренс Ван Бин (род. 1802)61. Также сюда относятся девица Люсия И Чженьмцы (1815–1862)62, французский иезуит Жан Пьер Неель (род. 1832)63 и скрывавший его
Мартин У Сюйшень (род. 1817), а также миряне Иоанн Чжан Тяньшэнь (род. 1805) и Иоанн Чэнь Сяньхэн (род. 1820)64.
В тот же день были беатифицированы Иосиф Чжан Вэньлань (род. 1831), 23-летний семинарист Павел Чэн Чанпин (род. 1838), Иоанн Баптист Ло Тингинь (род. 1825) и вдова Марта Ван Лоучжи (род. 1812)65, обезглавленные в г. Цинъянь 29 июля 1861 г.
В лике вьетнамских мучеников Пием X было беатифицировано гораздо большее количество лиц. Так, 20 мая 1906 г. были объявлены блаженными обезглавленные 1 ноября 1861 г. испанские доминиканцы Пере Хосе Альмато Рибера Аурас (род. 1830) и Валентино Фаустино Берри Очоа (род. 1827) [Martirologio Romano, 2004, 847], а также казненные 7 ноября 1773 г. доминиканцы Винсент Ле Куанг Льем (род. 1732) и Хасинто Кастаньеда Пучасонс (род. 1743) [Martirologio Romano, 2004, 861]. Кроме того, были прославлены свящ. Франческо Жиль де Фредерик де Санс (1702–1745)66 и Джозеф Нгуен Дуй Кханг (1832–1861)67.
В 1908 г., 2 августа, были беатифицированы Паоло Хань (род. 1826), обезглавленный в Сайгоне 28 мая 1859 г., и ректор католической семинарии свящ. Паоло Ле Бао Тинь (род. 1793), казненный таким же образом 6 апреля 1857 г.
Менее чем через год, 2 мая 1909 г., Пий X провел третью волну беатификации, в результате которой были объявлены блаженными мирянин Маттео Нгуен Ван Дак Фыонг (род. 1808) и свящ. Иоанн Доан Тринь Хоан (род. 1798), обезглавленные 26 мая 1861 г.; свящ. Паоло Ле Ван Лок (род. 1830), казненный 13 февраля 1859 г. в Кохинхине, свящ. Феро Хан (род. 1780), обезглавленный 12 июля 1842 г. после 6 месяцев тюремного заключения, и французский священник Пьер Франсуа Нерон (род. 1818), убитый 3 ноября 1860 г.
Завершают этот список мч. Агнесса Ле Тхо Тхань (1781–1841)68 из провинции Нинь-бинь в Тонкине, «мать семейства… подвергшаяся жестоким пыткам за то, что спрятала священника в своем доме, отказавшись отречься от веры» [Martirologio Romano, 2004, 538], Эмануэль Ле Ван Фунг (1796–1859)69, француз епископ Этьен Теодор Куэно (1802–1861)70, Франциск Трунг Тран (1825–1858)71, Джуз Ле Данг Тхи (1825–1860)72, француз священник Жан Теофан Венар (1829–1861)73 и скончавшийся во время пыток мирянин Джозеф Нгуен Ван Луу (1790–1854)74.
Подводя итоги, отметим, что в пользу политизации отдельных канонизаций и беатификаций Пия X свидетельствует значительное число прославленных им французов и итальянцев как ответ на антиклерикальную политику во Франции и Италии. Таким же свидетельством являются и особенности житий многих канонизированных и беатифицированных этим папой лиц, сталкивавшихся с противодействием анти-церковной светской власти. Кроме того, значительная часть прославленных лиц имела опыт масштабной социальной деятельности, что уже отмечалось при прославлении католических святых в предыдущий понтификат Льва XIII и является свидетельством влияния на анализируемую нами деятельность Пия X новой социально-политической доктрины. О следовании линии Льва XIII говорит и значительное число беатифици-рованных Пием X китайских и вьетнамских мучеников, начатое предшественником папы Сарто в кон. XIX в., что отражает повышенное внимание папского Рима к распространению католицизма в Азии.