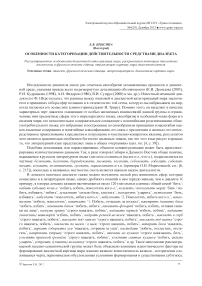Особенности категоризации действительности средствами диалекта
Автор: Брысина Евгения Валентиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности диалектной категоризации мира, раскрывается потенциал диалектных лексических и фразеологических единиц, отражающих картину мира диалектоносителя.
Диалект, фразеологическая единица, антропоцентризм, диалектная картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14821844
IDR: 14821844
Текст научной статьи Особенности категоризации действительности средствами диалекта
Исследователи диалектов много раз отмечали своеобразие номинативных процессов в диалектной среде, указывая прежде всего на развернутую детализацию обозначаемого (К.И. Демидова (2003), Р.И. Кудряшова (1998), А.И. Федоров (1980), В.И. Супрун (2000) и мн. др.). Известный немецкий диалектолог Ф. Штро полагал, что разница между языковой и диалектной категоризацией мира заключается в принципах отбора сфер познания и в «ячеистости» той сетки, которую мы набрасываем на мир, когда пытаемся его осмыслить (символ принадлежит И. Триру). Помимо этого, он выделяет в качестве характерных черт диалекта «зависящие от особых жизненных взаимосвязей данной группы и ограниченные ими предметные сферы этого мира народного языка; своеобразие и особенный чекан форм его видения мира; его незначительное содержательное совпадение с понятийными родственниками общеупотребительного языка; его избранные и построенные по своеобразным принципам и масштабам оценок языковые содержания и понятийные классификации; его связь с предметами и жизнью; его непосредственное прикосновение к предметам и погружение в чувственно-конкретное явление, результатом чего является сравнительно необычное богатство языковых знаков, так что этот язык рисует в красках то, что литературный язык представляет лишь в общих очертаниях» (цит. по: [4, с. 39]).
Подобная детализация, или парцеллирование, объектов концептуализации может быть проиллюстрирована количественными данными. Так, в ряде говоров Сибири и Дальнего Востока общее понятие, выражаемое в русском литературном языке глаголом охотиться (на кого-л., что-л.), подразделяется на частные: белковать, белочить, бурундуковать, лисовать, лосевать, соболевать, соболить, соболят-ничать, козовать, козлятничать, гусевать, маральничать и т.п. (примеры О.Н. Мораховской, см.: [6, с. 215]), поскольку в названных местностях охота является важным видом деятельности.
В донском казачьем диалекте также можно вычленить целый ряд жизненных сфер, которые осмыслены и в литературном языке, однако дробность понятий в нем гораздо меньше, чем в диалекте. К примеру, в говорах донских казаков насчитывается около 120 глагольных единиц с общей семой ‘бить’: набить кубышку кому-л. ‘побить, избить, поколотить кого-л.’, колупать / поколупать морду ‘бить / побить, избивать / избить’, лупастить ‘сильно бить, хлестать’, мазырнуть ‘ударить’, мутызкать ‘бить, избивать’, набуздать ‘поколотить, избить кого-л.’, набузовать ‘2. Поколотить, избить кого-л.’, навал-тузить ‘побить, поколотить’, наватлать ‘1. Побить, оттаскать за волосы’, наветрить (намять) бока ‘побить, избить’, навешать банок ‘побить, избить’, навешать фонарей ‘побить, избить, оставив синяки на лице’, нагнуть хряпку ‘строго наказать, побить’, надавать чертей ‘избить, побить’, надавать (навесить) шишмарей ‘избить, побить’, надрать ремней на шлеи ‘наказать, побить’, накласть в горб ‘строго наказать, побить’, накласть под завязку ‘строго наказать, побить’, накласть под шапку ‘строго наказать, побить’, накласть по шеям / в шею ‘строго наказать, побить’, напарить бока ‘наказать, побить’, нарвать (оборвать) ухи ‘наказать, оттрепав за уши’, настебать ‘побить, отхлестать, отстегать’, натрепать чупрыну ‘строго наказать, побить’, нянчить на кулаках ‘строго наказывать, бить’, угостить пряжкой (ремнём) ‘строго наказать, побить’, угостить святым кулаком ‘побить, сильно ударить’, устроить (учинить) волосянку ‘строго наказать, побить’ и др. Такое наполнение рассматриваемой лексико-семантической группы может быть объяснено влиянием идиоэтнического фактора на формирование диалектной картины мира донских казаков: воинственность казаков – исторически сложившаяся черта, первоначально обусловленная условиями формирования и существования субэтноса.
Представляют определенный интерес для анализа и другие диалектные лексемы и фраземы. Так, понятие «конь/лошадь» представлено в литературном языке половыми и возрастными обозначениями, в то время как в диалекте подобное членение выглядит гораздо более дробным. Концепт «Конь» является одним из базовых в диалектной картине мира донских казаков, что подтверждается и поговорками. Спаси коня один раз, а он тебя сорок раз ; Казак без коня, что солдат без ружья; Казак без коня – кругом сирота; Конь без казака, что лодка без рыбака – эти выражения употребляются для подчеркивания тесной, неразрывной связи казака с конем.
В донских казачьих говорах широко представлены наречия, характеризующие тип езды на лошадях, являющиеся фонетическими, словообразовательными или лексическими синонимами: вохлипки, вохлюпью, охлюпка, охлюпки, охлюпкой, охлюпя ‘без седла (о езде верхом)’, верхи ‘верхом’, рысцой, рыском, рыской, рыскою, рыстью, рысцом, наврыски, нарысь ‘рысью’, труньком, трюпки, трюпкой, трюпком, труско, трошком, трюхом, трюком ‘мелкой рысью’, намётом ‘галопом, очень быстро’, одвуконь ‘о езде верхом с запасным конем’. Количественная доминанта наречий, образующих лексикосемантическую группу «Тип езды на лошадях», в донских говорах – по сравнению с другими русскими диалектами – так или иначе связана с особенностями жизни, с военизированным бытом на Дону: у воина-казака было особое отношение к лошадям, казак шел служить вместе со своим конем и никогда с ним не разлучался.
Важно отметить, что развернутая номинация в диалекте охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека, но особенно широко она представлена там, где релевантным оказывается характеризующий фактор. Так, во все времена достаточно высоко в народе ценилось умение «слово молвить». Всегда вызывали сочувствие, а порой и осуждение излишняя молчаливость, угрюмость, робость, несмелость. Однако и чрезмерная болтливость всегда была объектом насмешек, издевательств и воспринималась в народной среде как такой же порок, как неумение вовремя ввернуть бойкое словцо.
Диалектная фраземика как одна из наиболее мобильных языковых систем, способных не только номинировать, но и определенным образом характеризовать номинируемый объект, в полном объеме отразила в своем составе особенности речевой деятельности людей, выделив в ней как сильные (положительные), так и слабые (отрицательные) стороны. Тематически диалектные фраземы, характеризующие речь человека, его речевые способности, можно подразделить на следующие группы: а) чрезмерная болтливость; б) излишняя молчаливость; в) характер речевой способности; г) частные речевые поступки (оговариваться, откровенничать, возражать, передразнивать и т. д.). Каждая из обозначенных групп отличается высокой наполняемостью и характерной конкретизацией представляемых действий и признаков.
«Слово – серебро, молчанье – золото», – гласит народная мудрость. В полном соответствии с этой установкой большинство диалектных фразеологических единиц критикует чрезмерную болтливость. Именно эта группа фразем более всего заполнена и включает в себя большое количество микротем: 1) «болтать попусту»: разговаривать об зеленых ящерицах ‘говорить о пустяках’; разводить кросна ‘говорить впустую, ни о чем’ 2) «болтать вздор, ерунду, нести чушь»: гнуть неоколесную ; трепать дуру ; переть нестурык; 3) «сплетничать»: бить клы ; разволдить склыки ; забить в било 4) «излишне громко говорить, кричать»: как в бочку гудит ; как в бубен бьет ; звонить во все звоны ; 5) «ругаться, браниться»: аж пыль столбом ; муха не пролетит; жут стоит о сильной брани ; 6) «поднимать шум, гвалт; ругать кого-либо, не имея на то никаких оснований»: брехать на воду ( на пень, на молодой месяц ) и др.
Излишняя молчаливость так же, как и многословность, не находит поддержки в народной среде. Более того, нередко плохая речь, говорение «невпопад» являются свидетельством невысоких интеллектуальных способностей, умственной недоразвитости человека, что служит поводом для многочисленных насмешек и издевательств. Неслучайно фразеологизм жевать рукав имеет, например, в донских говорах два значения, тесно взаимосвязанных друг с другом: 1) ‘быть глупым, ничего не соображать’; 2) ‘плохо говорить, мямлить’. По численному составу фраземы данной группы уступают единицам фразеосемантической группы со значением ‘излишне много говорить’, однако по образно-экс- прессивному потенциалу нередко даже превосходят их. Ср.: варежка надета на язык у кого ‘кто-либо плохо, невнятно говорит’; жевать рукавицу; жаба на языке испекётся у кого ‘кто-либо говорит медленно, растянуто’; слова не отопрёт кто ‘о человеке, который постоянно молчит’; корова язык отжевала кому ‘о том, кто всегда молчит’ и др. [2].
Еще одна группа диалектных фразем, отражающих речь людей, направлена на характер их речевых способностей. Так, ФЕ наломать язык указывает на обретенную способность красиво, убедительно говорить; ФЕ у цыгана мать выпросит кто характеризует человека, способного у кого угодно что угодно выпросить; фразема делать целую войну репрезентирует речевую ситуацию, когда кто-либо из незначительного события раздувает большой скандал. Диалектные ФЕ на языке как на оргáне играть ‘умело, красиво, складно говорить’; цимбала медовучая ‘о разговорчивом человеке, способном заговорить любого’ являются иронично-одобрительными характеристиками речевых способностей человека. Указанными примерами данная группа диалектных фразем не исчерпывается. Она включает в свой состав выражения, отражающие такие речевые способности людей, как умение создать интригу, запутать собеседника; распускать сплетни, ругаться нецензурно, врать, обманывать добиваться своего грубостью, нахальством, криком и др. В отдельную группу можно выделить фраземы, имеющие разные значения, но в совокупности обозначающие действия, связанные с речевой деятельностью (частные речевые поступки): разболтаться как тещин язык ‘излишне разговориться’; наступить на язык кому ‘заставить замолчать’; отливать пунтики ‘шутить, смешить кого-либо’; сказать скрозь зубы ‘сказать невнятно, сквозь зубы – не желая разговаривать с кем-либо’; гутарить по чистой ‘вести откровенный разговор’; выставлять зубы ‘оговариваться’ (ср. сиб. выставлять зубы на просушку ‘смеяться’); завести как бондарский конь под обручами ‘долго и нудно повторять одно и то же’; выть как сучка на юру ‘громко, безудержно причитать, плакать’; взять зубы на замок ‘замолчать’; втыкать язык ‘неожиданно и несвоевременно влезать в разговор’; бить в глаза (по глазам ) ‘укорять, упрекать’.
Речевая деятельность существует лишь постольку, поскольку существуют сами носители языка, поэтому фразеологический фонд диалекта неизбежно включает устойчивые выражения, характеризующие не только речь человека, но и его самого, исходя из этих способностей. Фразем такого типа в диалекте немало: журливая (пустая) говоря ‘о человеке, который любит много и попусту говорить’; докучливая басня ‘о назойливом, болтливом человеке’; докучная сказка – с тем же значением; беспроволочное радио ‘о сплетнике’; разбитая балалайка ‘о болтливом человеке’; большая гавкалка ‘скандалист’; ветряная мельница ‘пустослов, болтун’; ширый брёх ‘болтун, хвастун’ и др. При лингвокультурологическом анализе диалектных единиц, характеризующих речевую деятельность, важно обратить внимание на некоторые особенности их структурно-семантической организации. Многие ФЕ включают в свой состав слова, непосредственно связанные с понятием «речь»: язык, горло, глотка, губы, зубы, легкие (органы речи); говорить, гутарить, напевать, выпрашивать (речевые действия); басня, глаголы (в значении «молва»), поговорка, сказка, поголоска, рассказ (произведения речевой деятельности) и т. д. В некоторых случаях эти слова употребляются в своем прямом значении, образуя вместе с другими компонентами устойчивого сочетания фразеологические конструкции аналитического типа (ср.: брать на горло; заложить слово; гутарить по чистой ), в других – в составе целого выражения подвергаются метафоризации (сравните: варежка надета на язык; запеть не тем голосом; корова язык отжевала ).
В том, что в говорах представлена развернутая синонимия наименований всего, что связано с самим человеком, его чувствами, переживаниями, физическими и физиологическими состояниями, проявляется антропоцентризм мировидения диалектоносителей [1]. Общерусскому слову голова, которое употребляется как оценочно нейтральное, в донских говорах соответствуют стилистически маркированные слова калган , котел , котелок ; руки – клешни, грабли ; глаза – бельтюки, бельмы и др.
Общеупотребительные соматизмы используются диалектоносителями не только для обозначений реалий, связанных непосредственно с частями тела человека, но и как косвенные номинации. Так, по представлению носителей говоров, нос может служить показателем интеллектуальных способнос- тей человека, степени его сообразительности, опытности, ср.: нос не дорос, в носе не кругло – о тех, кто еще недостаточно опытен, мудр; отнять свободу воли можно, если взять за рёбра, завернуть нос, дать под салазки; непосильная физическая работа определяется через состояние рук, ног, шеи, позвоночника (не чуять под собой ног, руки-ноги отстают, надорвать хребтух).
Антропоцентрическое видение мира проявляется также в множественности номинаций процессов, ситуаций, действий, состояний, непосредственно связанных с человеком и нередко представленных через характерные образы. Так, действия, поступки человека, не совместимые с представлениями о разумном поведении, обозначены в диалекте аксиологическими единицами молотить башкой подсолнух , выбрасывать осетра , выкидывать коники , бзык укусил кого-л. , кто-л. больной на карман , катиться под раскат , отбирать у старца киёк , клёпки расклепались у кого-л. и мн. др. Отношение к трудовому процессу проявляется в словах и выражениях алахарь, хвостобой ‘бездельник’, протереть все кирпичи на печи , катать камушки , на собаках шерсть бить ‘бездельничать, проводить время в праздности’, а также в таких, как управляться как повар с картошкой , всё горит, всё кипит, аж мокрое горит и др.
Бытие человека оценивается им как непосредственная сфера применения его практических способностей, социального и культурного развития, поэтому в диалекте широко представлены слова и фраземы, отражающие культурно-исторический, социально-общественный, профессиональный и бытовой опыт носителей диалекта. Например, значительно более разветвленной по сравнению с литературным языком является система номинаций кровных и некровных родственников ( папаша, папашка, папака, батяка, батя, батяшка, батюня; бабуня, бабаня, бабанюшка, бабака, бабика и др.). Чрезвычайно дробным оказывается в диалекте деление времени на всевозможные отрезки, причем в основу темпоральных наименований положены практические нужды диалектоносителей, их представления о времени как части года, месяца, суток в отношении их конкретной значимости ( при моей памяти, ле-тось , зимось , надысь , ноне ( нонче ), позавчора , в дуб вышки , с зарею , с первыми ( вторыми , третьими ) кочетами , первая ( вторая ) спень , глухая спень , первый ( второй , третий ) упруг и мн. др.). Столь же многочисленны и разнообразны диалектные наименования одежды и обуви казаков ( гусарики, гетры, чувяки, поршни, пальтушка, плюшка, донская шуба, зипун, гешка и др.), продуктов питания и всевозможных национальных блюд ( кулага, бурсак, бурсачик, каныш, каравай, польская каша, казачий рассольник, ирьян, стечное ( порточное ) молоко , каймак и др.
Познаваемый мир предстает в сознании диалектоносителя как расчлененная на значимые отрезки картина, в «ячейках» которой укладывается весь богатый опыт диалектной языковой личности.
Список литературы Особенности категоризации действительности средствами диалекта
- Брысина Е.В. Диалектное слово в этнокультурном пространстве//Слово и значение во времени и пространстве: динамические процессы. Волгоград: Перемена, 2012.
- Брысина Е.В. Этнокультурная идиоматика донского казачества. Волгоград: Перемена, 2003.
- Демидова К.И. Диалектная картина мира. Екатеринбург, 2003.
- Закуткина Н.А. Феномен диалектной картины мира в немецкой философии языка ХХ века: дис. … канд. филол. наук. М., 2001.
- Кудряшова Р.И. Специфика языковых процессов в диалектах изолированного типа (на материале донских казачьих говоров Волгоградской области): дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 1998.
- Русская диалектология/под ред. Л.Л. Касаткина. М., 2005.
- Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Волгоград: Перемена, 2000.
- Федоров А.И. Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск, 1980.