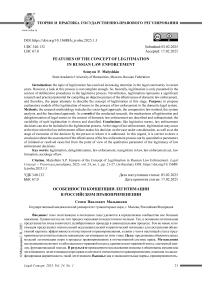Особенности концепции легитимации в российском правоприменении
Автор: Малышкин С.П.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: теме легитимации в последние годы уделяется в юридическом сообществе все большее внимание. Однако взгляд на этот процесс оказывается недостаточно полным. Так, в основном легитимация представляется лишь в контексте делиберативных процедур в законодательном процессе. Тем не менее легитимация представляет значительный исследовательский и практический потенциал для составления объективной картины эффективности отечественного правоприменения, в связи с чем в настоящей статье предпринимается попытка описать концепцию легитимации на этом этапе. Цель: предложение объяснительных моделей легитимации норм в процессе правоприменения в отечественной системе права. Методология исследования включает в себя социолого-правовой подход, сравнительно-правовой метод, системный анализ, функциональный подход. В результате проведенного исследования описаны и обоснованы механизмы легитимации и делегитимации норм права в контексте отечественного правоприменения, показана и классифицирована вариативность такой легитимации. Выводы: как и законодательные нормы, правоприменительные решения также могут быть включены в процесс легитимации. На этапе правоприменения легитимация может происходить в момент принятия правоприменителем своего решения по рассматриваемому им делу, а также на этапе исполнения решения лицом, к которому оно адресовано. В связи с этим корректно сделать вывод и об оценке результативности правоприменительного процесса не количественными параметрами возбужденных или разрешенных дел, а с точки зрения качественного параметра легитимированности правоприменительных решений.
Легитимация, делегитимация, правоприменение, признание в праве, правоприменительный акт, правообразование, социология права
Короткий адрес: https://sciup.org/149148165
IDR: 149148165 | УДК: 340.132 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2025.1.3
Текст научной статьи Особенности концепции легитимации в российском правоприменении
DOI:
Интерес к теме легитимации, заявленной в настоящей работе, обусловлен общей неразработанностью рассматриваемой тематики в отечественной юридической науке. Как правило, легитимация рассматривается лишь как производное понятие от легитимности, которая в большей мере раскрывается в контексте социологической или политологической литературы [12, p. 37–40], но в последние годы стала также раскрываться и в юридических исследованиях [3]. Тем не менее тематика легитимности (и тем более легитимации) все еще остается периферийной темой для отечественной теоретико-правовой литературы, хотя, как представляется, является ключом к объяснению эффективности правового регулирования и иных процессов, происходящих в контексте правотворчества и правоприменения. Подтверждение нашим предположениям мы находим и в профильной литературе, где отмечается, что эффективность правового регулирования непосредственно связана с легитимностью (признанностью в качестве надлежащих для исполнения) норм права, которая не может быть сведена к свойству легальности или законности [2, с. 53].
Место легитимации права в системе юридической деятельности
Обращение же к правоприменительному аспекту в рамках заявленной темы обусловлено непопулярностью этого исследовательского ракурса в философско-правовой и теоретико-правовой литературе как в России, так и за рубежом. Отсутствие интереса к теме легитимации объясняется также и структур- ными причинами, восходящими к особенностям существующих правовых семей. Так, в романо-германской правовой семье, в том числе в Российской Федерации, существует принципиальный разрыв между законодательной и правоприменительной деятельностью. Иными словами, законодательная деятельность далеко не всегда основывается на нуждах практики, на обратной связи от применения норм в той или иной сфере права. Поэтому иногда складывается ситуация, при которой введение новых законов не решает существующих практических проблем, но иногда даже усложняет общую систему действия норм, взаимодействия граждан между собой, а также с государством.
Правоприменение в таких условиях оказывается предоставленным самому себе. Поэтому, например, появляется законодательно признанная задача обеспечения единства судебной практики, которая решается Верховным и Конституционным судами Российской Федерации [9, с. 200–201]. Более того, в силу такого разрыва появляется практика применения норм не на основе текста федеральных законов, а на основе писем, приказов, распоряжений, регламентов и других форм подзаконных актов, что обрело свое обозначение в понятии регламентного права [4, с. 389–390]. При этом юридический характер части таких подзаконных актов иногда оказывается под вопросом.
По другой причине вопрос легитимации в контексте правоприменения не получает своего полного раскрытия в англо-саксонской правовой семье. В этой правовой традиции основным источником права, в принципе, является правоприменительный (как определили бы это в отечественной литературе) акт – судебный прецедент. Однако в силу этой осо- бенности судебный акт и становится тем, что в отечественной и иной романо-германской системе права называется «законом». При этом такой «закон» существует наравне с аналогами актов, принимаемых парламентом – «статутами» [10, с. 34–35]. Поэтому в англо-саксонской правовой доктрине вопрос легитимации звучит более радикально: «Творят ли судьи право или применяют его?» [13, p. 1007–1009].
На основе вышеуказанных причин тематика легитимности и легитимации оказывается более раскрытой в контексте законотворчества. Например, концепция легитимации права Ю. Хабермаса строится вокруг признания законотворческих актов, что концептуализируется в понятиях делиберативных процедур и делиберативной демократии, которые отражают смысл принятия законодательных решений при обсуждении и участии представителей гражданского общества [1, с. 140]. Однако сама концепция делиберативной демократии, хотя и затрагивает сферу конституционного законодательства, в большей мере относится даже не к конституционализму, а к политологии и политической философии. А потому на первый план в этом аспекте выходит не вопрос действенности норм права, а вопросы обеспечения демократических стандартов принятия политических решений.
Таким образом, в отсутствие общей концепции легитимации в контексте правоприменения как в зарубежной, так и отечественной философско-правовой литературе задачей настоящей статьи является предложение объяснительных моделей легитимации норм в процессе правоприменения в отечественной системе права.
Обоснование возможности легитимации права на этапе правоприменения
Поскольку тема легитимации в контексте российского правоприменения во всех ее возможных аспектах была бы слишком широкой для освещения в одной статье, отметим основные положения для очерчивания границ нашего исследования. Мы отметили, что даже в профильной литературе, касающейся легитимации, речь ведется лишь о легитимации в контексте делиберативных процедур, относящихся к законотворческой деятельности. Обращение в философско- и теоретическо-правовой литературе лишь к законотворчеству свидетельствует об отсутствии в доктрине определенности в отношении того, каким образом и на каких основаниях возможно описание легитимации вне законотворчества: в том числе в контексте правоприменения и тем более в контексте реализации права, которое практически не рассматривается как объект юридических исследований. Поэтому для приведения такой аргументации, которая относится к аксиоматическим положениям юриспруденции, в некоторой степени выходящим за пределы собственно юридической науки, обратимся к философско-правовой аргументации.
Для искомого обоснования обратимся к функциям права. В зарубежной литературе встречается точка зрения на основную функцию права, как на средство, служащее для урегулирования или предотвращения конфликтов. В американской литературе этот тезис также приписывают так называемой морально-функционалистской концепции права («moral functionalist» conception of law) [14, p. 276]. Если мы обратим внимание на отечественную теоретико-правовую литературу, затрагивающую функции права, то обнаружим схожие взгляды касательно назначения права – регулирование и охрана общественных отношений, что выражается соответственно в регулятивной или охранительной функции права [8, с. 131– 132]. Последняя, в свою очередь, включает в себя функционал разрешения конфликтов, о котором было сказано в контексте зарубежной литературы.
Сопоставляя виды юридической деятельности (правотворчество и правоприменение) с описанными функциями права, мы приходим к выводу, что функция урегулирования конфликтов (охранительная функция) реализуется в контексте правоприменения. Правотворчество, в свою очередь, более релевантно регулятивной функции права. В этом контексте отметим, что если регулятивная функция может быть оценена на предмет легитимности, то и выполнение охранительной функции также по тем же основаниям может быть как легитимировано, так и делегитимировано.
Безусловно, вопросы о том, какие законы принимать, как распределять бюджет го- сударства и распоряжаться налогами, которые относятся к законодательной деятельности, являются более острыми и масштабными, поэтому есть количественно больше оснований для существования практики их признания или непризнания. Однако по этим же основаниям может быть оценен и процесс воплощения этих норм в жизнь отдельными уполномоченными государственными органами и должностными лицами – правоприменение. Например, могут не признаваться или признаваться в качестве надлежащих обстоятельства, в которых применяются соответствующие правовые нормы, круг лиц, в отношении которых они применяются, форма их применения и другие параметры. При этом в данном случае признаваться (легитимироваться) или не признаваться могут не отдельные правоприменительные решения по какому-либо разрешаемому спору, но и общие практические закономерности или тенденции, когда по однородным спорам принимаются определенные и предсказуемые правоприменительные решения. Обратимся к структуре правоприменения, чтобы более конкретно описать механику легитимации в этом контексте.
Правоприменение в широком смысле как процесс урегулирования споров должностными лицами, государственными органами или иными уполномоченными лицами всегда подразумевает некоторый итог этой деятельности в виде правоприменительного решения или решений – издание правоприменительного акта (судебного решения, протокола, предупреждения и т. д.). В отечественной теории права принято считать, что именно этим и оканчивается правоприменительный процесс [5, с. 116]. Таким образом, правоприменительный процесс в некоторой степени аналогичен процессу законотворчества, результатом которого становится также определенный правовой акт. Однако такое представление и о законотворческом, и о правоприменительном процессах, результатом и завершением которых является создание правового акта (нормативного или индивидуального), является неполным. Как отмечают В.Ю. Трофимов и Н.А. Придворов, для действительного обретения юридической силы принятый закон должен пройти наряду с этапом формализации также этап социализации, то есть применения на практике и оценки его адресатами такого закона, как надлежащего или ненадлежащего для его исполнения [7, с. 316–317]. Аналогичный процесс «социализации права» происходит и в случае с правоприменительными актами.
В этом контексте следует обратить внимание на ту часть правоприменительного процесса, в котором происходит легитимация или делегитимация права. Отвечая на этот вопрос, отметим, что легитимация или делегитимация может быть идентифицирована на двух этапах правоприменительного процесса. Во-первых, в момент принятия правоприменителем своего решения по рассматриваемому им делу. И во-вторых, на этапе исполнения решения лицом, к которому оно адресовано.
Иными словами, «социализация» на этапе правоприменения происходит и через понимание, толкование и оформление правоприменителем своего решения, когда посредством интерпретационной деятельности такого лица норма федерального закона, как правило, трансформируется из-за переложения ее на конкретные жизненные обстоятельства. Для понимания этого процесса можно обратиться, например, к объяснительной схеме Г.Ф. Шершеневича, представившего процесс правоприменения в виде силлогизма, в котором большая посылка (норма права), переходя через меньшую посылку (реальные жизненные обстоятельства дела), в любом случае изменяется с поправкой на них [11, с. 405].
К этому же относятся и ситуации некорректного понимания правоприменителем нормы (как в случае ее более строгого, так и в случае ее менее строгого применения). Очевидный пример, когда суды делегитими-ровали путем существенно более широкого толкования ст. 282 Уголовного кодекса РФ при квалификации лайков и репостов в соцсетях. На это обратил внимание впоследствии Верховный суд РФ [6]. Этот случай корректно квалифицировать как делегитимацию нормы потому, что ее юридический смысл размывается и заменяется не соответствующим этому замыслу произвольным пониманием должностных лиц через соответствующую правоприменительную практику.
Легитимация и делегитимация также могут происходить и на этапе исполнения вынесенного правоприменительного решения.
В контексте правоприменения должно быть даже более очевидно, что оценка ее результата заключается в виде исполнения этого предписания лицом, к которому оно обращено, а не просто в вынесенном акте. Отсюда следует, что для более реалистичного представления о результатах правоприменения целесообразнее было бы обращать внимание на действия лица, к которому обращены эти правоприменительные акты. Так, к примеру, решения могут не исполняться, предписания игнорироваться, штрафы не оплачиваться. Однако подчеркнем, что нарушение и делегитимация решения не являются одним и тем же действием.
Неисполнение решения суда или другого правоприменительного органа или лица характеризуется полным отказом обязанного лица от совершения возложенного на него действия. Делегитимация оказывается ближе к злоупотреблению правом, обходу закона, действиям по типу «итальянской забастовки». Такое понимание делегитимации более релевантно для гражданско-правовой сферы (в широком смысле) в силу того, что в охранительных отраслях права правоприменительные решения реже возлагают на лиц, к которым обращены такие правоприменительные решения, обязанность в виде активных действий. В большей мере в охранительных отраслях права предусматриваются обязанности в виде претерпевания неблагоприятных действий. В гражданско-правовой же сфере лицо может напрямую не отказываться от исполнения обязанности, но создавать условия, замедляющие, отсрочивающие или искажающие изначальный смысл возложенной на него обязанности. Например, инициация процедур банкротства таким должником, использование фактических процессуальных особенностей, замедляющих движение дела (например, подача заявлений в более загруженный суд с более медленным делопроизводством, выбор более загруженного отделения ФССП и т. д.).
Выводы
Таким образом, на основе обращения к функциям права, приведения аналогии с процессом правообразования и наблюдения структурной разделенности процессов форма- лизации и исполнения правоприменительных актов, мы пришли к выводу, что, как и законодательные нормы, правоприменительные решения также могут приниматься и одобряться их адресатами (гражданами, организациями, должностными лицами) и не одобряться, игнорироваться или саботироваться. Мы также отметили, что понятие делегитимации в контексте правоприменения оказывается ближе к злоупотреблению правом, обходу закона, действиям по типу «итальянской забастовки», но не открытому отказу в исполнении нормы, которая обращена к определенному лицу вынесенным правоприменительным актом. В связи с этим мы делаем вывод, что результативность правоприменительного процесса требует также оценки решений, вынесенных в этом процессе, с позиций легитимированно-сти таких решений их адресатами.