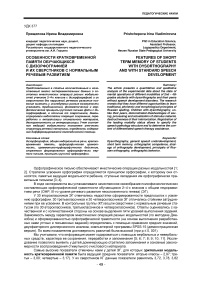Особенности кратковременной памяти обучающихся с дизорфографией и их сверстников с нормальным речевым развитием
Автор: Прищепова Ирина Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Педагогические науки
Статья в выпуске: 11, 2014 года.
Бесплатный доступ
Представленный в статье количественный и качественный анализ экспериментальных данных о состоянии мнестических операций разных модальностей учеников 2-4-х классов с дизорфографией и их сверстников без нарушений речевого развития позволил выявить у исследуемых разные возможности усваивать традиционный, фонематический и морфологический принципы русского письма. Дети с дизорфографией, в отличие от сверстников, демонстрировали недостатки операций сохранения, переработки и актуализации стимульного материала, деструктивность их интериоризации. Учет состояния ведущей модальности позволяет уточнить структуру речевой патологии, определить содержание дифференцированной логопедической помощи.
Дизорфография, общее недоразвитие речи, кратковременная память, орфографическая грамотность, грамматико-орфографическое действие, стратегия формирования орфографически верного письма, принципы русской орфографии
Короткий адрес: https://sciup.org/14935925
IDR: 14935925 | УДК: 377
Текст научной статьи Особенности кратковременной памяти обучающихся с дизорфографией и их сверстников с нормальным речевым развитием
Орфографическое письмо обеспечивают мнестические операции разных модальностей [1; 2]. Стратегии усвоения орфографии определяются принципом орфографии, к которому они относятся, памятью ведущей модальности ребенка, ступенью овладения им орфографически правильным письмом [3; 4].
В ходе эксперимента мы устанавливали качественное своеобразие психофизиологических составляющих орфографической грамотности обучающихся 2–4-х классов с общим недоразвитием речи (ОНР, III-го уровня речевого развития неосложненного генеза) (ЭГ).
У 30 второклассников ЭГ отмечались недостатки сформированности предпосылок к усвоению орфографии. 30 третьеклассников и 30 четвероклассников ЭГ отличались стойкими затруднениями при ее усвоении. В контрольные группы (КГ) вошли сверстники с нормальным речевым статусом (по 30 второклассников, третьеклассников и четвероклассников). Ответы оценивались с качественной и с количественной стороны на основе выделения пяти уровней выполнения заданий. Зависимость между характером мнестических операций разных модальностей (по методике Джекобса) и сформированностью орфографической грамотности (на основе выполнения разработанных нами устных и письменных заданий) определялась с помощью сравнения средних значений, двухфакторного дисперсионного анализа, компьютерной программы SPSS-15 (демонстрационная версия). По всем показателям достоверность различий была высокой (при p ≤ 0, 001).
Мы учитывали, что информация может кодироваться с помощью вербальных и невербальных средств, характера ее сохранения, переработки и запоминания [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Исследование позволило выявить у детей доминирующую стратегию запоминания и основные закономерности воспроизведения стимульного (числового) материала.
Самые высокие показатели отмечены нами у детей ЭГ, для которых зрительная модальность кратковременной памяти была ведущей (средние показатели: вторые классы – 2,97; третьи – 3,00; четвертые – 3,17). У их сверстников КГ данные показатели равнялись 3,72, 3,78, 3,82
соответственно. Несмотря на это, ни один школьник с ОНР не продемонстрировал высокого уровня становления мнестических операций данной модальности. В отличие от них, второклассники, четвероклассники (по 16,7 %) и третьеклассники (13,3 %) КГ сразу, уверенно и безошибочно воспроизводили цифровой ряд, что свидетельствовало о сформированности операций зрительной памяти (запоминания, сохранения и актуализации / реактивации), соответствующих возрасту.
Учащиеся вторых (6,7 %), третьих (13,3 %) и четвертых (10 %) классов ЭГ, а также их сверстники КГ (вторые классы – 10 %, третьи – 6,7 %, четвертые – 13,3 %) пропускали и / или нарушали порядок следования цифр, находящихся в середине цифрового ряда из-за недостатков операций актуализации (уровень выше среднего). Ошибки дети находили и исправляли самостоятельно.
Значительная часть школьников ЭГ (36,7 % второклассников, 23,35 % третьеклассников, 40 % четвероклассников), а также отдельные ученики КГ (по 3,3 % второклассников и третьеклассников, 6,7 % четвероклассников) допускали по три аналогичных ошибки, что говорит о снижении концентрации и объема зрительного внимания (средний уровень). Один из неправильных ответов дети, как правило, исправляли, если логопед указывал на наличие ошибок. Неуверенность в ответах учеников выражалась в длительных паузах между предъявлением и написанием ими цифр. В среднем по четыре ошибки (в середине, начале и в конце цифровой последовательности) допускали 26,7 % второклассников, 23,3 % третьеклассников, 10 % четвероклассников ЭГ. Эти ошибки проявлялись в виде пропусков, смешения (чаще по оптическому сходству, например, 6 / 9, 3 / 8, 1 / 4 , и реже при смешении с другими числами разряда единиц: 5 / 9, 2 / 7), добавления цифр: 2, 4, 3, 9, 6, 8, 1, 5 / 2, 4, 5, 3, 9, 6, 8, 1, 5 , изменения их следования в конце цифрового ряда: 2, 4, 3, 9, 6, 8, 1, 5 / 2, 4, 3, 9, 6, 8, 5, 1 (уровень ниже среднего). Это говорит о деструктивности зрительных, слуховых образов соответствующих цифр, недостатках целостности зрительного восприятия, деструктивности концентрации и распределения внимания, выраженном снижении объема кратковременной памяти данной модальности, вызванными нарушением операций сохранения и актуализации стимульного материала. К написанию цифр дети приступали не сразу, прерывались во время записи, пытались уточнить правильность воспроизведенного, последующие цифры или инструкцию задания. Во время записи цифр они прибегали к самоконтролю в виде проговаривания, однако положительного эффекта это не имело. Школьники исправляли отдельные ошибки лишь при стимулирующей помощи логопеда.
Ученики ЭГ, отнесенные нами к низкому уровню (вторые, третьи классы – по 6,7 %, четвертые – 3,3 %), помимо вышеописанных ошибок, допускали замены немотивированного характера (2, 4, 3, 9, 6, 8, 1, 5 / 7, 4, 3, 9, 6, 8, 1, 5 ) и повторы уже заданных логопедом чисел, находящихся в начале и / или в конце цифрового ряда (2, 4, 3, 9, 6, 8, 1, 5 / 2, 4, 3, 9, 6, 8, 1, 5, 5 ). Характер их ошибок свидетельствовал о недостаточной сформированности «эффекта края» в восприятии, о нарушениях структурности восприятия, о его пассивности, неустойчивости. Нами отмечены явление «прилипания внимания», снижение его избирательности и продуктивности, нарушения операций запоминания и, как следствие, кратковременной мнестической деятельности (операциональный, содержательный, мотивационный компоненты). Выполнение задания требовало постоянного контроля экспериментатора из-за повышенной отвлекаемости детей, их быстрой утомляемости, что приводило к отказам от его выполнения.
Самые низкие результаты отмечены у учащихся ЭГ при запоминании стимульного материала с опорой на кинестетическое восприятие (среднее значение: вторые классы – 2,72, третьи – 2,98, четвертые – 2,90). Результативность сверстников КГ была самой высокой по сравнению со всеми заданиями данной серии (среднее значение: вторые классы – 3,74, третьи – 3,99, четвертые – 4,00). Учитывая сходство ошибок, допускаемых детьми ЭГ во всех трех заданиях, укажем наиболее значимые для нашего исследования данные.
Высокого уровня сформированности кратковременной кинестетической памяти не было выявлено ни у одного школьника ЭГ, в отличие от сверстников КГ (10 % второклассников, 16,7 % третьеклассников, 6,7 % четвероклассников).
По сравнению с предыдущими результатами отмечался бóльший разрыв в количестве детей экспериментальной (вторые, третьи, четвертые классы – по 3,3 %) и контрольной групп (вторые классы – 20 %, третьи – 13,3 %, четвертые – 10 %), выполнивших задание на уровне выше среднего.
По 3,3 % учащихся ЭГ вторых, третьих и 6,7 % учащихся четвертых классов, а также 16,7 % второклассников, 13,3 % третьеклассников, 3,3 % четвероклассников КГ при воспроизведении количества и порядка цифр допустили по три ошибки, что отражало снижение концентрации, объема внимания и недостаточную сформированность операций реактивации мнестической деятельности (средний уровень).
Количество учащихся ЭГ, кинестетическая память которых соответствовала уровню ниже среднего (по 3,3 % второклассников, третьеклассников и четвероклассников) и низкому (вторые классы – 3,3 %), было меньшим по сравнению с аналогичными данными исследования зрительной памяти. Дети ЭГ написали лишь две последние (из восьми) цифры. Такой ответ соответствует имеющимся данным об эффекте «прилипания внимания» (в данном случае – к концу цифрового ряда). Механизмом подобных нарушений кратковременной кинестетической памяти являются недостатки распределения внимания, а также инфралогических операций, лежащих в основе определения порядка и последовательности стимульного материала.
Мы обнаружили у детей ЭГ выраженные недостатки целостности восприятия, резкое снижение концентрации и объема слухового внимания и кинестетического анализа, контроля со стороны собственного речедвигательного анализатора. Помимо ошибок, описанных при анализе выполнения предыдущего задания, ученики повторяли уже названные (3, 6, 2, 9, 0, 4, 1, 7 / 3, 6, 2, 9, 0, 4, 1, 1, 7 ), заменяли числа по звуковому сходству вследствие ярко выраженной деструктивности морфологических обобщений, в частности, затруднялись при определении морфемного состава слов.
У детей отмечались недостатки операций припоминания. В результате дети при назывании чисел добавляли к уже имеющейся лексеме корневую морфему, переводя число из разряда единиц в разряд десятков (восемь / восемьдесят ) или сотен (четыре / четыреста ). Такие ошибки были связаны с недостатками сукцессивно-симультанных операций. Как правило, дети ЭГ успешнее воспроизводили начальные цифры. Значительные затруднения вызывало запоминание средних и последних чисел в ряду. Правильность ответов учащихся ЭГ зависела и от характера речевого материала. Успешнее воспроизводились цифры, названия которых включали один слог ( ноль, два ), труднее – с двумя-тремя слогами ( восемь, четыре ).
Большинству детей ЭГ свойственна нечеткость представлений о числе и цифре, что выражалось в неправильном употреблении соответствующей терминологии при проговаривании во время записи цифр (« Пишем число восемь…» ). Они часто соскальзывали на предыдущий алгоритм выполнения здания или математические действия, уточняли содержательную и операциональную составляющие выполняемых действий, несмотря на то что предыдущее задание также предполагало запоминание и запись цифр: « Нужно сказать числа или записать? Прибавить или отнять?»
Дети КГ демонстрировали не только более высокий уровень сформированности кинестетической памяти, но и качественно более «узкий» характер ошибок. Наличие же достаточного навыка самоконтроля позволяло найти и исправить большинство ошибок.
Следующей по численности и уровню сформированности составляющих операций стала подгруппа учащихся с ОНР, у которых слуховая память была сформирована лучше по сравнению с другими модальностями (средние показатели, соответственно: вторые классы – 2,78; третьи – 2,90; четвертые – 3,07). Показатели их сверстников КГ: вторые классы – 3,70, третьи – 3,75, четвертые – 3,99.
Лишь по 3,3 % третьеклассников и четвероклассников ЭГ продемонстрировали соответствующий возрасту уровень сформированности операций слуховой памяти (высокий уровень). Количество их сверстников КГ, продемонстрировавших безошибочное воспроизведение числового ряда, было значительно выше (вторые классы – 10 %, третьи – 13,3 %, четвертые – 16,7 %).
Самой представительной оказалась часть учащихся ЭГ (вторые классы – 3,3 %, третьи, четвертые – по 13,3 % школьников), у которых показатели сформированности слуховой памяти соответствовали уровню выше среднего. Эти показатели были близкими к показателям запоминания учащихся с нормальным речевым развитием. Дети КГ (6,7 % второклассников, 16,7 % третьеклассников, 20 % четвероклассников) также пропускали одну-две цифры, находящиеся в середине числового ряда. Однако, как правило, ошибочные ответы они замечали и исправляли самостоятельно.
По 3,3 % второклассников и четвероклассников, 6,7 % третьеклассников ЭГ, а также часть их сверстников КГ (по 3,3 % второклассников и третьеклассников, 6,7 % четвероклассников) допустили по три ошибки. Им были свойственны пропуски в середине цифровой последовательности, перестановки, замены названий цифр по звуковому сходству (четыре / четырнадцать) и повторы уже предъявленных цифр (средний уровень). Такие ошибки отражали снижение у детей концентрации и сужение объема слухового внимания, операций актуализации кратковременной слуховой памяти. Дети искажали падеж значительного количества слов, обозначающих названия цифр, выбирая слова с определенными предлогами (три / из трех / к четырем), что свидетельствует не только о неусвоении учащимися ЭГ грамматического строя речи, но и о смешении ими алгоритмов грамматико-орфографических и математический операций, в результате чего актуализировались «клише» математического словаря. Самоконтроль позволял детям самостоятельно находить и исправлять ошибки.
Практически в половине случаев ошибались 3,3 % второклассников и третьеклассников ЭГ. При этом характер их ошибок был аналогичным вышеописанным (уровень ниже среднего). Единичные ошибки помогал исправить логопед.
В результате анализа полученных экспериментальных данных можно сделать следующие обобщения.
-
1. Исследование продемонстрировало у детей с ОНР и с нормальным речевым статусом различия в преобладании типа кратковременной памяти. При низком уровне ее сформированности большинство учащихся ЭГ в основном опиралось на зрительную память и в меньшей степени – на слуховую и кинестетическую.
-
2. Выявлены количественные и качественные различия в характере запоминания и воспроизведения стимульного материала детьми обеих групп. Это позволяет определить потенциальные условия усвоения учащимися отдельных орфографических правил и овладения ими принципами орфографии в целом.
-
3. Допущенные детьми ЭГ ошибки свидетельствуют о недостатках мнестической деятельности, процессов переработки информации в целом, о снижении объема (в более легких случаях), количества и последовательности предъявляемого стимульного материала, о недостатках мобилизационной готовности и неуверенности в правильности воспроизведения (в более тяжелых случаях).
-
4. Низкую результативность школьников ЭГ усугубляли деструктивность инфралогических операций, обеспечивающих выделение последовательности и количества стимульного материала; недостатки целостности и структурности зрительного восприятия; нарушения концентрации, распределения и объема внимания (в более тяжелых случаях – избирательности), пассивность; недостатки сукцессивно-симультанной деятельности, низкий уровень сформированности самоконтроля со стороны речедвигательного и слухового анализаторов при тихом, шепотном произнесении или проговаривании про себя во время записи цифр.
-
5. Эксперимент частично подтвердил закономерности, описанные в возрастной психологии, согласно которым нормально развивающиеся младшие школьники при кратковременном запоминании преимущественно используют слуховую модальность. Из трех обозначенных нами модальностей учащиеся КГ отдавали предпочтение кинестетической, слуховой памяти, в меньшей степени опираясь на зрительную. Уровень их сформированности значительно превосходил показатели учащихся ЭГ и выражался более однородными количественными показателями. Младшие школьники КГ, в отличие от их сверстников ЭГ, демонстрировали интериоризованность мнестических операций, что позволяло им выполнять задание молча, про себя.
Ссылки:
-
1. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. М., 1966.
-
2. Менчинская Н.А. Вопросы умственного развития ребенка. М., 1971.
-
3. Прищепова И.В. Дизорфография и ее диагностика у младших школьников с общим недоразвитием речи : учеб.-
метод. пособие. 2014.
-
4. Савельева Л.В. Проблема реализации познавательного потенциала младших школьников в начальном языковом образовании (на примере обучения орфографии) : монография. СПб., 2006.
-
5. Ахутина Т.В. Нарушения письма: диагностика и коррекция // Актуальные проблемы логопедической практики : метод. материалы науч.-практ. конф. «Центральные механизмы речи», посвященной 100-летию проф. Н.Н. Трауготт / отв. ред. М.Г. Храковская. СПб., 2004. С. 225–247.
-
6. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших школьников // Система формирования и развития младшего школьника как субъекта учебной деятельности и нравственного поведения. 1995. С. 44–53.
-
7. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960.
-
8. Зинченко В.П., Вергилис И.Ю. Формирование зрительного образа // Исследование деятельности зрительной системы. М., 1969.
-
9. Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. М., 2002.
-
10. Чуприкова Н.И. Психология умственного развития : Принцип дифференциации. СПб., 2007.
-
11. Богоявленский Д.Н. Указ. соч.