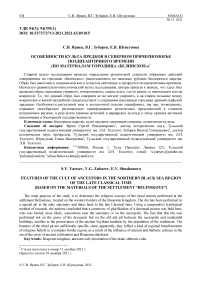Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени(по материалам городища "Белинское")
Автор: Ярцев С.В., Зубарев В.Г., Шушунова Е.В.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Главной целью исследования является определение религиозной сущности обрядовых действий совершенных на городище «Белинское», расположенном на западных рубежах Боспорского царства. Обряд был выполнен в специальной яме в золистом святилище и датируется позднеантичным временем. Используя сравнительно-типологический метод исследования, авторы пришли к выводу, что здесь был проведен обряд героизации умершего, похороненного, скорее всего, где-то рядом со святилищем или на некрополе. То, что данный обряд был совершен не на могиле умершего, а на старом зольнике между некрополем и жилой застройкой, свидетельствует о сохранении населением городища древней скифской традиции. Особенности ритуальной ямы в достаточной степени специфичны, так как, по-видимому, отражают своеобразную региональную трансформацию религиозных представлений в сложном пограничном регионе, в результате влияния античной и варварских культур в эпоху кризиса античной цивилизации и боспорской государственности.
Боспорское царство, культ предков, героизация умерших, хтонические культы
Короткий адрес: https://sciup.org/14123576
IDR: 14123576 | УДК: 94(395.1)
Текст научной статьи Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени(по материалам городища "Белинское")
Городище «Белинское», расположенное вблизи современного села Белинское на Керченском полуострове, является одним из самых укрепленных городищ на западных рубежах Боспорского царства. Только площадь территории крепости внутри оборонительных стен равняется 8,2 га. Одной из причин возведения в начале II в. н.э. такого крупного центра вдали от столицы являлась необходимость обеспечения контроля над важнейшими путями, связывающими территории Центрального Крыма и Таманского полуострова, на которые претендовал Боспор (Зубарев, Смекалов, Ярцев 2016: 110—136; Зубарев, Смекалов, Ярцев 2018: 110—118). За время своего существования городище не менее двух раз подвергалось тотальному разрушению (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 116—173). Во II в. н.э. после серии войн с крымскими скифами часть позднескифского населения в качестве зависимого варварского населения была переселена в район городища для занятия земледелием с целью бесперебойного снабжения продовольствием воинского гарнизона (Зубарев, Ярцев 2016: 209—216). Все это, безусловно, самым непосредственным образом отразилось на специфике отправляемых населением городища культов.
За годы раскопок1 на городище было исследовано большое количество сакральных памятников, различного уровня и функционального назначения. Из них выделяется сакральный комплекс на раскопе «Восточный», на котором в свете последних исследований необходимо остановиться подробнее (рис. 1). Он состоит из серии каменных кругов и алтарной вымостки с жертвенником, предназначенным для обряда возлияния (рис. 2, 3). Данные объекты были обнаружены в позднеантичном слое золистой супеси и перекрывающем его раннесредневековом слое темно-серой супеси, что, безусловно, свидетельствует о длительном этапе функционирования данных сооружений. Неслучайно поэтому некоторые из данных круглых конструкций со временем подвергались ремонту и восстановлению при помощи возведения новых рядов кладок (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 416—419). Схожие конструкции, в том числе и по отправлению обрядов возлияния жидкости, были выявлены на некрополе Илурата, где они также датируются позднеантичным периодом (Ханутина, Хршановский 2003: 315—328; Хршановский 2015: 145—146; Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 421—426).
Ранее нами уже высказывалось предположение, что расположенный рядом с кругами зольник позднеантичного времени, возможно, имел отношение к позднескифским хтоническим верованиям, наличие которых уже отмечалось на городище (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 427). В дальнейшем в ходе проведения раскопок 2018—2019 гг. под слоем зольника был выявлен и раскопан еще один круг с внутренним диаметром 4,6 м, который ограничивал помещение № 55 площадью 23,75 кв. м. (рис. 4). Скорее всего, данная конструкция также была связана с отправлением культа хтонического характера. На это указывают многочисленные находки в непосредственности близости предметов культового характера: переносных алтарей, жертвенника, культовых тарапанов (один из которых был даже специально вставлен в кладку
МАИАСП № 13. 2021
каменного круга (рис. 5)), наличие в соседнем помещении алтаря и т.д. (Зубарев, Ярцев 2020: 160—173). В пользу сакрального характера выявленного на восточном участке комплекса свидетельствуют и обнаруженные в непосредственной близости от кругов безинвентарные захоронения. Точное время данных погребений установить не представляется возможным, однако очевидно, что речь идет о позднеантичном периоде (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 369—370). Что же касается так называемого помещения № 55, то, по-видимому, это самый ранний из кругов на восточном участке Белинского городища. Исходя из анализа материала находок, он датируется последней четвертью III в. н.э., то есть временем правления царя Фофорса, когда на Боспоре проходили восстановительные строительные работы после периода варварских нашествий и политической нестабильности (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 139— 142; Зубарев, Ярцев 2020: 164).
Конечно, круглые сооружения на Белинском городище в отличие от подобных сооружений на Илурате (Хршановский 2015: 142—147) или Танаиса (Толочко 2014: 156) не выложены непосредственно на некрополе. Однако платообразная оконечность скального мыса, где был возведен сакральный комплекс, располагается буквально напротив противоположного склона Аджиэльской балки, на котором находится некрополь городища «Белинское». Очевидно, что это не может являться простой случайностью. Кроме того, исследованный в 2018—2019 гг. указанный самый ранний каменный круг Белинского городища, как мы уже сказали, после прекращения его функционирования был перекрыт зольником, время формирования которого определяется нами первой четвертью IV в. н.э. (Зубарев, Ярцев 2020: 163—164). Ранее мы уже указывали на связь подобных зольных культовых объектов с земледельческой магией и почитанием женского божества. В нашем случае, исходя из характера зольника (Зубарев, Ярцев 2019: 132—133), речь идет о хтонических богинях плодородия, вера в которых в позднеантичный период трансформировалась в единый синкретический культ Великой Матери (Молев, Молева 2007: 88). Отчасти это объясняет круглую форму святилищ связанных с данными верованиями. Дело в том, что у многих народов, как, например, у степных и крымских скифов, подобные верования были неразрывно связаны с магией круга, который, по-видимому, являлся отражением солярных мифов и представлений о божественной хранительнице священного огня (очага) (Гуляев 2019: 473—474), а также воплощением круга земного — царства Великой богини (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 427—428).
В ходе проведения дальнейших археологических исследований удалось уточнить характер и особенности сакрального комплекса на Белинском городище. Новым важным объектом стала обнаруженная в 1,0 м к юго-востоку от каменного круга яма—ботрос № 158, имеющая отчетливо выраженное культовое предназначение. Яма была выявлена на глубине 0,6 м от дневной поверхности непосредственно в слое зольника. Форма ямы грушевидная в разрезе. Верхняя часть ямы впущена в слой золы, нижняя прорезает слой желтого суглинка. Дно ямы вырублено в скале. Горловина и стенки ямы не укреплены, что свидетельствует о разовом ее использовании. Диаметр горловины — 0,5 м. Диаметр дна — 0,77 м. Глубина — 0,8 м. Дно плоское. Соединение со стенками слегка закруглено (рис. 6, 7).
Грунт заполнения ямы однороден — рыхлая зола, частично напоминающая серый пепел, с фрагментами печины и мелкими кусками горелого ракушечника. На глубине 0,4—0,55 м от горловины ямы выявлены 18 компактно сложенных фрагментов печины. Материал из грунта заполнения располагался в нем неравномерно. Все отдельные фрагменты керамики, попавшие в яму при ее засыпке, выявлены выше закладки из печины. Это ножка светлоглиняной амфоры с воронкообразным горлом второй половины IV — начала V в. н.э. и ручка лепного сосуда. Ниже печины, на глубине 0,7 м от горловины, обнаружен развал
МАИАСП № 13. 2021
Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени… верхней части позднеантичной амфоры со сбитыми профилированными частями. Под ним по центру на глубине 0,8 м от горловины, то есть на самом дне ямы, найден фрагмент топора эпохи бронзы из черного гранита (в античное время топор использовался в качестве лощила или тёрочника) (рис. 8).
Время заполнения ямы определяется по амфоре, которая судя по форме сохранившейся верхней части тулова и красно-глиняному тесту, с включением темных частиц и кварцевого песка, соответствует типу Антонова I (Антонова и др. 1971: 82—83, рис. 1—2) или 103 по И.Б. Зеест (Зеест 1960: 121, табл. XL: 103 ) (рис. 9). Такие амфоры обычно датируют довольно широко в пределах второй половины IV—VII вв., однако их детальная типология пока не разработана (Зинько, Зинько 2019: 174—175; Смокотина 2020: 522). До этой находки на городище «Белинское» немногочисленные фрагменты амфор данного типа представлены в основном обломками ручек из слоя светлой золистой супеси и из заполнения ям (Зубарев 2021: 192).
Структура заполнения ямы № 158 и археологические предметы, обнаруженные в ней, однозначно позволяют утверждать об отправлении здесь какого-то сложного обряда, связанного с культом предков. В первую очередь этот вывод основан на том, что похожие ритуальные ямы хорошо известны у поздних скифов. Так, на самом известном позднескифском святилище поселения римского времени Молога II — крупнейшем пункте позднескифской ойкумены расположенном на берегу Днестровского лимана, обнаружено уже более 200 ям и 7 зольников (Малюкевич 2013: 296—306). Во многих из этих ям действительно размещали части красноглиняных широкогорлых амфор и фрагменты другой посуды (Малюкевич 2013: 298). Для проведения же обряда возлияния в отдельных объемных ямах специально устанавливались красноглиняные амфоры, нередко со сбитыми профилированными частями и отбитым днищем, аналогичные амфоре из ямы—ботроса с Белинского городища (Малюкевич 2013: 302, 309, рис. 2, 5). Конечно, характер заполнения ямы в нашем варианте имеет отличие от указанных поминально-тризновых жертвенных ям, совершенных по скифскому обряду. Здесь нет подмазывания глиной стенок ямы, другой посуды, кремня, галек—окатышей, каменных и глиняных шариков, переносных жаровень, и самое главное — костей жертвенных животных (Высотская 2001: 78; Малюкевич 2013: 302). Однако на этом основании мы не можем полностью исключить варварское участие в отправлении культов на Белинском городище. И дело даже не в том, что ранее нами уже фиксировалось позднескифское влияние на духовную культуру местного населения (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 361—365). Выбор места для религиозного комплекса — на крайнем участке скалистого плато с высоким береговым обрывом, расположенным между некрополем и хозяйственно-жилой застройкой городища, практически вплотную к последней, был произведен в четком соответствии с древней скифской традицией (Малюкевич 2013: 296— 297). Правда, организация таких отдельных ритуальных ямных комплексов не стала характерной для позднескифского населения Крыма (Малюкевич 2013: 303). Однако обстоятельства поражения в войне, массового пленения и насильственного переселения на территорию победителей, усугубленные жестоким разгромом городища во второй половине III в. н.э., могли способствовать возвращению попавшего в зависимость позднескифского населения к архаичным формам организации своих ритуальных комплексов.
Обряд возлияния хтоническим божествам и душам умерших предков также хорошо известен поздним скифам. При этом не всегда он, как и на Белинском городище, был связан непосредственно с захоронениями. Так, в одном из помещений царского дворца Неаполя Скифского жертвенник был образован из вертикально установленной синопской амфоры II в. до н.э. с отбитой ножкой. Соответственно, жидкость при проливе уходила в землю, что,
МАИАСП № 13. 2021
скорее всего, действительно было связано с заупокойным культом и могло иметь прямое отношение к смерти хозяина дворца царя Скилура (Сон 1993: 116; Зайцев 1997: 47; Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 439). Жертвенники для возлияний установленные над небольшими ямами внутри помещений на городище Чайка также представляют собой вертикально установленные горловины амфор или же каменные загородки над крупными камнями с отверстием по центру (Попова 1990: 196—197). В этой связи уместно напомнить, что аналогичный камень из разрушенного жертвенника был найден в соседней яме, здесь же на раскопе Восточный (Ярцев, Зубарев, Бутовский 2015: 431).
Тем не менее, необходимо учитывать, что ритуальные возлияния также хорошо были известны и в Греции (Caro 1943: 11; Колобова 1961: 30; Акимова 1990: 233; Папанова 2006: 159; Винокуров, Крыкин 2019: 67). Поэтому можно согласиться с предположением, что постоянное соприкосновение скифов с греками могло привести к культурному заимствованию варварами специфики этого обряда (Попова 1990: 202). Тем более что непосредственно в Северном Причерноморье в эллинистический и римский периоды использование античным населением фрагментов сосудов и камней с отверстиями в качестве жертвенников в погребальных сооружениях не было редким явлением (Попова 1990: 202; Малюкевич 2013: 304). В качестве примера можно привести использование амфор без дна в качестве алтарей на некрополе Ольвии. Довольно частое возлияние вина через эти амфоры приводило к разрушению частей скелетов погребенных (Папанова 2006: 159). Отметим, что аналогичный обряд известен не только на некрополях (Сорокина 1963: 61), но и непосредственно на античных городищах, например, в Тиритаке, где в качестве алтаря для возлияний была использована перевернутая вниз верхняя часть амфоры расположенная в оградке из камней. Ниже находилась квадратная яма глубиной менее 1 м, стенки которой были частично облицованы каменной кладкой. Сооружение было справедливо интерпретировано в качестве алтаря для возлияний (Зинько 2007: 138). Подобный обряд, связанный с возлиянием подземным богам с использованием частей амфор, выявлен и на Артезиане. Н.И. Винокуров предполагает здесь фракийское влияние (Винокуров, Крыкин 2019: 56—92).
Тем не менее, попытка свести специфику обряда выявленного на Белинском городище к похожей античной и позднескифской традиции поминально-тризнового характера вряд ли поможет в правильной интерпретации совершенных ритуальных действий. Дело в том, что амфора из ямы—ботроса Белинского городища, даже если и была использована в качестве алтаря для возлияния, в конечном итоге, почему-то оказалась лежащей почти на самом ее дне. Это было сделано специально, еще до заполнения ямы, то есть в ходе проведения ритуала. Более того, амфору не только положили на бок, но и аккуратно раскололи на две почти одинаковые части, между которыми и немного ниже поместили древний топор из черного гранита. Только после этого яма была засыпана золой, которая на определенном уровне была целенаправленно выложена слоем, состоящим из фрагментов аккуратно и компактно размещенной печины (рис. 10). Следовательно, если в начале обряда в качестве алтаря для возлияния использовалась относительно целая амфора, лишенная только профилированных частей и нижней части, в конце же ритуальных действий возникла необходимость уже в двух половинках амфоры. По нашему мнению, все эти манипуляции с последней, равно как и продуманное трех уровневое заполнение ямы (сверху вниз: печина, две половинки амфоры и топор—тёрочник), не могут являться простой случайностью. Безусловно, имеет значение даже то, что амфора для обряда была выбрана с глиняным тестом красноватого цвета. Очевидно, что такая особенность вместе с использованием золы, имеет прямое отношение к имитации огня — одного из главных составляющих обрядовых действий. Если, например, вновь обратиться к скифской традиции, то можно убедиться, что
МАИАСП № 13. 2021
Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени… пепельная подсыпка и красный цвет в погребальном обряде были необходимы для верований, связанных с плодородием, обеспечивающих переходное состояние организма между жизнью и смертью, а также дающих надежду на продолжение жизни, новое рождение, то есть на оживление умерших (Бессонова 1990: 31).
Если это так, то необходимо еще раз проанализировать сакральные уровни выявленной нами ямы—ботроса с целью определения идеологической нагрузки каждого из них. Если начать с верхнего уровня, то необходимо сразу отметить, что характер нашего комплекса не предполагает использования в нем печины производственного характера. Судя по характеру золистого заполнения ямы, данный уровень явно имел отношение к домашнему очагу, который в античное время нередко изготавливался из глины и имел непосредственное отношение к хранительнице домашнего семейного очага Гестии. Культ этой богини — «первейшей между богами» (Hymn. Hom. In Venerem., 30—32) был связан именно с очагом, вокруг которого происходили различные обряды, заключались брачные союзы, на пятый день рождения обносились новорожденные, справлялись семейные праздники с надеждой на защиту, тепло и надежду на благополучное будущее (Nilsson 1976: 337—338; Simon 1998: 99—107; Русяева 2005: 182—185; Крапивина 2012: 184—185, 188). Как и огонь, Гестия была чиста и целомудренна. Будучи «хранительницей всего домашнего» (Cic. De nat. deor., II, 67), богиня являлась покровительницей неугасимого огня, который объединял богов, людей и каждую семью, в чем, безусловно, проявлялась трехвалентность данного культа (Салбиев 2019: 255). Видимо неслучайно в трагедии Еврипида «Алкеста» в преддверии смерти главная героиня просит у своего очага всемогущую богиню беречь ее детей (Eurip. Alc., 162—169). Это объясняет, почему место особого почитания Гестии на городище Козырка в виде полукруглой каменной загородки заполненной золой в углу помещения II—III вв. н.э., располагается именно там, где очень много погребенных детей в жилых домах (Крапивина 2012: 199). Поэтому вполне справедливо отождествить множественность Гестий царского очага у скифов (Herod., IV, 68) именно с хтонической сущностью богини, позволяющей видеть в ней мать и повелительницу духов—предков (Ельницкий 1960: 50).
Следующий сакральный уровень нашей ямы—ботроса, расположенный ниже слоя печины, представлен амфорой без профильных частей, которая, как уже говорилось, вначале использовалась в качестве алтаря для возлияния. Однако последующие действия, связанные с расколом этой амфоры на две половины и укладкой их параллельно друг другу, явно несут в себе какую-то важную религиозно-семантическую нагрузку. Действительно, если учитывать влияние культа Гестии на людей совершавших данные ритуальные действия, а, следовательно, почитание ими огня как священной стихии и солнца, то можно допустить, что они руководствовались отголосками индоевропейской традиции, представлявшей мир в виде двух половинок мироздания. В центре этих верований находится солнце, а лучи солнечной колесницы связывают земную сферу людей с солнечной, небесной, божественной сферой. Заупокойный культ мертвых, в этом случае, основывается на том, что душа после смерти человека отправляется к солнцу на колеснице (Кузьмина 1974: 83—85; Прокопенко 2014: 179).
Подобные взгляды сохраняются и в более поздний период. В позднеантичное время, когда широко распространяется вера в бессмертие души, особое развитие получают представления о вознесении души умершего к звездам — покровителям мертвых (Plut. Romul., XXVIII) при помощи крылатых фигур или колесниц. Это подтверждается изображениями, как апофеозов императоров (Wendland 1907: 182, тaf. IV; Амбрамзон 1995: 451, илл. 76), так и собственно героизацией обычных людей (Сumont 1942: 486—487; Richmond 1950: 39; Мatz 1958: 3—15; Cumont 1959: 103; Тurcan 1966: 76). Однако здесь сразу обращает на себя внимание, что эта двойственность мироздания, дуализм, хорошо известный по античной философии, наиболее
МАИАСП № 13. 2021
отчетливо выражен в праиндоевропейском космогоническом мифе о золотом зародыше — мировом яйце. Известно, что смерть первого существа родившегося из этого яйца, привела к появлению первой пары разнополых близнецов (перволюдей, Неба и Земли и т.д.) (Прокопенко 2014: 179—180). В греческой традиции миф о мировом яйце был непосредственно связан с богами. Так, известен орфический миф, по которому из мирового яйца возник божественный творец Фанес—Протогон, отождествленный с Дионисом (Orph. h. VI, 30) (Тахо-Годи 1988: 33). Есть мифы, в которых фигурирует бог Кронос и появившееся из яиц чудовище Тифон (Лосев 1996: 837—838). Но в наиболее распространенных их версиях фигурирует Зевс (в облике лебедя), от связи с которым у Леды рождается яйцо, а из последнего появляется Елена (Apollod., III, 10,7; Eurip. Hel., 16—22) или же яйцо рождается от связи Зевса—лебедя и богини Немесиды—гусыни, а Леда лишь сохраняет его (Apollod., III, 10,7).
Все эти и некоторые другие схожие мифы объясняют причину важной роли, которую стали играть представления о мировом яйце в эллинском культе мертвых (Папанова 2006: 213; Шауб 2007: 410—411). При этом не только греки и римляне стали класть в могилы яйца, но и некоторые другие народы, как например скифы, также старались размещать в жертвенных ямах морскую гальку, каменные и глиняные шарики (Малюкевич 2013: 302), а в погребениях использовать яичную скорлупу (Высотская 1979: 175—176). Тем не менее, важно отметить, что в культе предков предметы и объекты, символизирующие животворящую силу мирового яйца, могли принимать особые, довольно сложные формы. Например, в скифских курганах в могилах иногда создавали конструкцию, явно имитирующую желток в яйце. В могильнике же раннесарматского времени у с. Китаевка на территории Центрального Предкавказья, в одном из погребений с двух сторон человеческого скелета без головы была вообще размещена разрубленная надвое лошадь. Таким образом, человек специально был заключен в определенный овал, где лошадиные половины являлись зеркальным отражением друг друга. При этом челюсти половинок лошадиного черепа соединялись там, где должна быть голова погребенного, что справедливо связывается с мифом о творении мира из яйца и с парой близнецов от инцестуальной связи которых должна появиться новая жизнь (Прокопенко 2014: 179—180).
Обращает на себя внимание, что идеологическую нагрузку данного обряда, довольно точно копирует вариант с размещением двух половинок амфоры в яме—ботросе на Белинском городище. Яйцевидная форма целой верхней части амфоры лишенная профильных частей, даже у современных людей вызывает ассоциации с яйцом, что, безусловно, было замечено и в древности. Следовательно, если в погребении у с. Китаевка две лошадиные половины, символизируя мировое яйцо, способствовали новому рождению погребенного, то в культовой яме на Белинском городище две половины амфоры должны были обеспечить новую жизнь тому, кого символизировал фрагмент топора бронзового века, размещенный между ними. Конечно, на первый взгляд, без собственно погребенного данный обряд не имеет смысла, ведь только при его наличии есть необходимость имитировать яйцо, которое и должно стать гарантией возрождения умершего (Nilsson 1957: 139—142; Кастанаян 1959: 238; Мелитинский 1976: 206; Каковкин 1990: 86—87). Однако нам неизвестно, что люди, которые проводили обряд, подразумевали под фрагментом древнего для них топора. Очевидно, что данная проблема является ключевой для понимания сакрального смысла исследуемых нами обрядовых действий.
Тем не менее, несмотря на важность третьего, самого нижнего сакрального уровня ямы— ботроса на Белинском городище, сказать что-либо определенное по нему сейчас довольно трудно. Он представлен фрагментом топора эпохи бронзы, ставшего в античное время тёрочником или лощилом, расположенного хотя и несколько ниже, но точно по центру между
МАИАСП № 13. 2021
Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени… двумя половинами расколотой амфоры. Случайным такое пространственное размещение предметов в ритуальной яме быть не может. Правда, локализация древней вещи на самом нижнем уровне с уверенностью позволяет предположить, что речь идет о хтонической составляющей отправляемого культа, ведь сюда же вниз, в землю, было направлено и возлияние, которое совершилось при помощи амфоры, по-видимому, сразу же после засыпки топора слоем золы.
Действительно, черный гранит, из которого был сделан данный предмет, также как и кремень вполне может высекать искры, что хорошо соотносится с культом Гестии и священного огня (Cалбиев 2019: 263). Более того, необходимо учитывать, что такие находки, как лощила или тёрочники в ритуальных ямах и святилищах, неразрывно связаны с характером своего «двойного назначения». Считается, что именно преобразующие качества этих предметов, которые разрушают старую и порождают новую сущность, были востребованы в обрядовой практике (Тульпе, Хршановский 1994: 108—109). Являясь символом перехода и преобразования, данные вещи неоднократно фиксировались в составе ритуальных комплексов (Кузина, Масленников 2019: 114). Тем не менее, требует объяснения и связь подобных предметов с некоторыми из женских божеств, в культе которых прослеживается сильная хтоническая составляющая. Так, например, еще с VI в. до н.э. в святилище Кибелы в Ольвии в качестве вотивных предметов использовались каменные топоры более ранних эпох (Носова 2002: 65). Там же в Ольвии, в яме—ботросе, посвященной Афродите, были специально размещены три крупных каменных растиральника (Крапивина 2002: 25). На Боспоре присутствие подобных предметов (обломок каменного топора, кремневые отщепы) в поминальных комплексах также не редкость (Хршановский 2019: 164). В некоторых из них, судя по сохранившимся граффити, обращались к Афродите, Деметре, Дионису (Хршановский 2019: 161).
С одной стороны, использование в ритуальных целях «чужих» вещей — реликтов эпохи энеолита и бронзы, разумеется, не случайно, и в какой-то степени определяется их значимостью для боспорян в мифоритуальной сфере (Хршановский 2014: 433—436). С другой стороны, женские божества плодородия, обладающие достаточно сильными сотерическими и воскрешающими функциями, в религиозном сознании людей находились наиболее ближе к земле и земледельческим культам, что, безусловно, оказывало влияние на выбор вотивов для приношения. Что же касается нашего предмета, то, например, тот же тёрочник можно использовать для растирания растительного сырья, а лощило в идеале подходит для работы над природным материалом — кожей, шерстью, деревом.
Однако если отождествлять третий нижний сакральный уровень ямы—ботроса на Белинском городище, представленный фрагментом древнего топора (тёрочника/лощила) с хтоническим женским божеством, то возникает следующее серьезное противоречие. Учитывая, что данный предмет был специально размещен между двумя половинами амфоры, непонятно, зачем потребовалось воскрешать в новой жизни женское божество, обращаясь, с этой просьбой, к нему же. Не будет ли вернее предположить, что здесь мы наблюдаем обряд отождествления покойного с божеством, сложного явления того же порядка, что и героизация. По нашему мнению, это было возможно только в случае, если важный предмет, подходящий для ритуала и обладающий к тому же ценностью в глазах соотечественников (например, достаточно древний), являлся собственностью умершего и возможно был связан с родом его занятий. Следовательно, сакральным смыслом такого обряда являлось не создание особых почестей своему умершему предку, а в стремлении обеспечить ему лучшую участь в загробном мире. Тем более, если эта лучшая участь ассоциировалась уже не с мрачным Аидом, а с райской обителью героев (Диатроптов 2001: 58—59). Напомним, что к
МАИАСП № 13. 2021
позднеантичному времени месторасположения такой обители в сознании людей постепенно менялось от веры в царство Элизиума и островов Блаженных на краю света до восприятия представлений восточного происхождения, в которых души мертвых отправлялись на небеса (Plato. Republ., 614, 621; Plut. Romul., XXVIII; Cumont 1959, 103; 105, 167—169; Штаерман 1961: 288; Соломоник 1973: 70—77).
Может именно поэтому в сакральной яме с Белинского городища, тому, кто руководил ритуальными действиями, пришлось символически воспроизводить вертикаль религиозномифологической вселенной, столь важной для осуществления героизации умершего. Учитывая двойственность божественного мира, характерную для религиозного сознания людей в римский период, мы действительно видим здесь сочетание небесных и поземных богов, которые, по-видимому, должны были обеспечить божественный статус и последующее бессмертие умершего родственника. На самом верху нашего пантеона располагается Гестия, которая только на первый взгляд принадлежала исключительно к земным богам. Целомудренная и безбрачная Гестия была не только богиней домашнего очага, она являлась старшей дочерью Кроноса и Реи и в полном покое пребывала на Олимпе, символизируя незыблемый космос (Hes. Theog., 448—452; Apollod., I, 1,5; Тахо-Годи 1987: 299; Farnell 2010: 345—373). Ниже располагался третий сын бога Кроноса, бог неба и всего мира Зевс, с помощью которого получил развитие космогонический миф о мировом яйце — важного и крайне необходимого элемента для нового рождения погребенного. Самый нижний уровень представлен женским хтоническим божеством, символизм которого обеспечил предмет, по-видимому, при жизни принадлежащий умершему. Ритуальные действия, связанные с возлиянием, касались именно этого нижнего загробного мира, богиня которого, по-видимому, должна была обожествить покойного, допустить его слияние с собой, вдохнуть в него божественные силы. Задача же небесных представителей нашего пантеона, судя по всему, заключалась в обеспечении его рождения в новом качестве и в перемещении обожествленного героя в область небесной сферы к своим предкам. Конечно, как точно проходили ритуальные действия нам неизвестно. Но если, например, перед статуей Афродиты, которой отводилась роль Надгробной, и без того совершался довольно непростой обряд с возлияниями и мистическими молитвами с обращениями к усопшим (Plut. Mor. Quest. Rom., 23), то вряд ли выполнение сложного обряда героизации умершего предка было проще по своему исполнению.
Особый интерес также вызывает то обстоятельство, что выявленные нами особенности сакральных уровней ямы—ботроса Белинского городища довольно точно совпадают с трехчленной религиозно-мифологической системой скифов, характеристику которой приводил еще Геродот: «Они почитают только следующих богов. Прежде всего Гестию, затем Зевса и Гею (Гея у них считается супругой Зевса); после них Аполлона и Афродиту Уранию, Геракла и Ареса … На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс (и, по-моему, совершенно правильно) — Папей, Гея — Апи, Аполлон — Гойтосир, Афродита Урания — Аргимпаса …» (Herod., IV, 59). Д.С. Раевский в своей реконструкции организации космоса по вертикали в мифологическом понимании скифов объяснил главенство Гестии/Табити над другими божествами скифского пантеона определением последней в качестве богини, обнимающей все мироздание в целом (Раевский 2006: 148—153). Более того, по мнению ученого, одной из причин выхода на первые позиции этого божества в скифском пантеоне, являлось состояние варварского общества в V в. до н.э., когда происходило усиление скифской государственности, превращение Гестии/Табити в покровительницу царя и хранительницу царского очага (Раевский 2006: 118—120). Богиня фактически стала олицетворением священного огня царского очага, в котором воплотилось единство скифского
МАИАСП № 13. 2021
Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени… народа (Гуляев 2019: 473). Заметим, что все это происходило, несмотря на несомненный архаизм, ведь имя «Табити», как справедливо обратил внимание В.И. Гуляев, фигурирует еще в Махабхарате (Топати — дочь Солнца, по-видимому, общее божество для предков иранцев и индоарийцев) (Гуляев 2019: 473).
Таким образом, тенденция к архаизации религиозных представлений, так ярко проявившаяся на Белинском городище в позднеантичный период, также должна находить свое объяснение. По нашему мнению, причина этого явления кроется в серьезных изменениях в области идеологии в позднеантичный период, в переходе от избранной единичной героизации к широкому апофеозу умерших. Теперь посмертная героизация становится делом практически каждой семьи и ею занимаются ближайшие родственники умершего. Следовательно, всех их, включая ушедших ранее предков, теперь объединяет семейный очаг. Это объясняет причины усиления хтонических культов в позднеантичный период и повышение внимания к религиозным представлениям, касающихся огня и семейного очага. Теперь именно родственники должны были умилостивить богов с целью обожествления своего умершего, обеспечить его рождение в новом статусе и отправить последнего в божественную сферу, туда, где пребывают прославленные предки. Обычно для этого требовалось не только обеспечить умершему соответствующее погребальное сооружение, установить надгробную статую или рельеф с характерным изображением, но и провести ритуальные действия на могиле с жертвенным возлиянием. На Боспоре необходимость в подобных действиях диктовалось и неустойчивым временем духовного, экономического и внешнеполитического кризиса. Тем более, период которым датируется яма—ботрос на Белинском городище, однозначно способствовал возвышению роли хтонических божеств с защитными и воскрешающими функциями. В это время Боспорское царство вступило в сложные взаимоотношения с появившимися в Северном Причерноморье гуннами, что, безусловно, накладывало свой отпечаток на характер проживания местного населения, тем более в пограничных районах государства. Видимо в это неспокойное время, на старом золистом святилище городища местными жителями был проведен обряд героизации умершего, похороненного, скорее всего, где-то рядом или на некрополе. То, что данный обряд был совершен не на могиле умершего, а на старом зольнике между некрополем и жилой застройкой, свидетельствует о сохранении населением городища древней скифской традиции. На это, возможно, указывают и особенности трехуровневой ямы—ботроса, демонстрирующей следы трехчленной организации космоса скифской мифологии, которая по замыслу и должна была обеспечить обожествление, новое рождение и отправку умершего на небеса. Кроме того, использование зольника для ритуальной ямы также было характерно для поздних скифов. Тем не менее, содержание скифских жертвенных ям в таких зольниках сильно отличается от набора вещей из ямы—ботроса на Белинском городище. Не являются они типичными и для античного населения Северного Причерноморья, которые стремились совершать обрядовые действия в рамках отправления культа предков (тризны, жертвоприношения, возлияния в честь богов подземного мира и героизированных умерших) непосредственно на могилах своих ушедших родственников. Античные ямы—ботросы посвященные подземным богам, также имеют мало общего со спецификой ритуальной ямы с Белинского городища. Особенности последней в достаточной степени специфичны, т.к., по-видимому, отражают своеобразную региональную трансформацию религиозных представлений в сложном пограничном регионе в результате влияния античной и варварских культур в эпоху кризиса античной цивилизации и боспорской государственности.
МАИАСП № 13. 2021
Список литературы Особенности культа предков в Северном Причерноморье позднеантичного времени(по материалам городища "Белинское")
- Абрамзон М.Г. 1995. Монеты как средство пропаганды официальной политики Римской империи. Москва: Магнитогорский дом печати.
- Акимова Л.И. 1990. Об отношении геометрического стиля к обряду кремации. В: Иванов В.В., Невская Л.Г. (ред.). Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. Москва: Наука, 229—237.
- Антонова И.А., Даниленко В.Н., Ивашута Л.П., Кадеев В.И., Романчук А.И. 1971. Средневековые амфоры Херсонеса. АДСВ 7, 81—107.
- Бессонова С.С. 1990. Скифские погребальные комплексы как источник для реконструкции идеологических представлений. В: Зубарь В.М. (ред.). Обряды и верования древнего населения Украины. Киев: Наукова думка,17—40.
- Винокуров Н.И., Крыкин С.М. 2019. Жертвенники для возлияний хтоническим божествам Боспора и Фракии: общее и особенное. ПИФК 4, 56—92.
- Высотская Т.Н. 2001. К вопросу о позднескифских зольниках. РА 3, 77—87.
- Высотская Т.Н. 1979. Неаполь — столица государства поздних скифов. Киев: Наукова думка.
- Гуляев В.И. 2019. Скифы Северного Причерноморья в VII—IV вв. до н.э. (старые проблемы — новые решения). Москва: ИА РАН.
- Диатроптов П.Д. 2001. Культ героев в античном Северном Причерноморье. Москва: Индрик.
- Ельницкий Л.А. 1960. Из истории древнескифских культов. СА 4, 46—55.
- Зайцев Ю.П. 1997. Южный дворец Неаполя Скифского. ВДИ 3, 36—50.
- Зеест И.Б. 1960. Керамическая тара Боспора. Москва: АН СССР (МИА 83).
- Зинько В.Н. 2007. Культово-сакральные объекты Тиритаки первых вв. н.э. (предварительное сообщение). В: Зинько В.Н. (ред.). БЧ VIII. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Святилища и сакральные объекты. Керчь: Крымское отделение Института востоковедения НАН Украины, 137—140.
- Зинько В.Н., Зинько А.В. 2019. Амфорный склад из раскопок ранневизантийской Тиритаки. МАИЭТ XXIV, 173—185.
- Зубарев В.Г. 2021. О датировке античных и ранневизантийских слоев на городище «Белинское» в Восточном Крыму. ДБ 26, 178—198.
- Зубарев В.Г., Смекалов С.Л. Ярцев С.В. 2016. Ландшафтная география археологических памятников центральной части урочища Аджиэль. БИ XXXIII, 110—136.
- Зубарев В.Г., Ярцев С.В. 2016. Особенности варварских миграций на территорию Боспора в первые века нашей эры (по материалу городища «Белинское»). В: Буданова В.П. (ред.). Цивилизация и варварство. T. V. Вызовы деструкции в лабиринте миграции варварства. Москва: Аквилон, 209—228.
- Зубарев В.Г., Смекалов С.Л. Ярцев С.В. 2018. Основные дороги Европейского Боспора в римский период. БИ XXXVI, 100—118.
- Зубарев В.Г., Ярцев С.В. 2019. Археологические исследования в урочище Аджиэль в 2018 г. История и археология Крыма XI, 131—138.
- Зубарев В.Г., Ярцев С.В. 2020. Круглые каменные сооружения на городище «Белинское» в Восточном Крыму. ДБ 25, 155—175.
- Каковкин А.Я. 1990. О двух группах коптских памятников с античными сюжетами. ВДИ 1, 80—92.
- Кастанаян Е.Г. 1959. Грунтовые некрополи боспорских городов VI—IV вв. до н.э. и местные их особенности. МИА 69, 257—295.
- Колобова К.М. 1961. Древний город Афины и его памятники. Ленинград: Ленинградский университет.
- Крапивина В.В. 2002. Ботрос святилища Афродиты в Ольвии. В: Вахтина М.Ю., Зуев В.Ю. (ред.). Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища. Т. II. Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 24—29.
- Крапивина В.В. 2012. Домашние святилища античных памятников Северного Причерноморья. БИ XXVI, 182—217.
- Кузина Н.В., Масленников А.А. 2019. Находки, связанные с морской стихией, из сельских святилищ Крымского Приазовья. В: Кузнецов В.Д., Завойкина А.А. (ред.). Hypanis. Труды отдела классической археологии Института археологии Российской Академии Наук. Вып. 1. Москва: Институт археологии Российской Академии Наук, 110—118.
- Кузьмина Е.Е. 1974. Колесный транспорт и проблема этнической и социальной истории древнего населения южнорусских степей. ВДИ 4, 68—87.
- Лосев А.Ф. 1996. Мифология греков и римлян. Москва: Мысль.
- Малюкевич А.Е. 2013. Культовые жертвенники Мологи. В: Айбабин А.И., Зинько В.Н. (ред.). БЧ XIV. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Археологический объект в контексте истории. Керчь: Крымское отделение Института востоковедения НАН Украины, 296—309.
- Мелетинский Е.М. 1976. Поэтика мифа. Москва: Наука.
- Молев Е.А., Молева Н.В. 2007. О культовой принадлежности архитектурного комплекса II—V вв. н.э. на восточной окраине Китейского святилища. В: Зинько В.Н., Крапивина В.В. (ред.). Древности Северного Причерноморья в античное время. Симферополь: Крымское отделение Института востоковедения А.Е. Крымского НАН Украины, 84—89.
- Носова Л.В. 2002. О культовых зольниках античных поселений Северо-Западного Причерноморья (в связи с раскопками Кошарского археологического комплекса). В: Вахтина М.Ю., Зуев В.Ю. (ред.). Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища. Т. II. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 62—68.
- Папанова В.А. 2006. Урочище Сто могил — некрополь Ольвии Понтийской. Киев: Знания Украины.
- Попова Е.А. 1990. Позднескифские жертвенники с городища «Чайка». СА 3, 196—203.
- Прокопенко Ю.А. 2014. Скифы, сарматы и племена кобанской культуры Центрального Предкавказья во второй половине I тыс. до н.э. Ч. 2. Ставрополь: СКФУ.
- Раевский Д.С. 2006. Мир скифской культуры. Москва: Языки славянских культур.
- Русяева А.С. 2005. Религия понтийских эллинов в античную эпоху: Мифы. Святилища. Культы олимпийских богов и героев. Киев: Стилос.
- Салбиев Т.К. 2019. Скифо-сарматское ядро осетинской религиозно-мифологической системы (культ огня). NARTAMONGM. Журнал Алано-осетинских исследований: Эпос, Мифология, Язык, История XIV (1—2), 237—288.
- Смокотина А.В. 2020. Амфоры позднеримского и ранневизантийского времени. В: Зинько В.Н., Зинько А.В., Пономарев Л.Ю. Тиритака. Раскоп XXVI. Т. 3. Археологические комплексы второй половины III—VII вв. Симферополь; Керчь: НИЦИАК КФУ, 509—618.
- Соломоник Э.И. 1973. Из истории религиозной жизни в северопонтийских городах позднеантичного времени (по эпиграфическим памятникам). ВДИ 1, 55—77.
- Сон Н.А. 1993. Тира римского времени. Киев: Наукова Думка.
- Сорокина Н.П. 1963. Раскопки некрополя Кеп в 1961 г. КСИА 95, 60—65.
- Тахо-Годи А.А. 1987. Гестия. В: Токарев С.А. (ред.). Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. Москва: Советская энциклопедия, 299.
- Тахо-Годи А.А. 1988. Античная гимнография. В: Тахо-Годи А.А. (ред.). Античные гимны. Москва: МГУ, 5—56.
- Толочко И.В. 2014. Погребения грунтового некрополя Танаиса I-III вв. н.э. В: Зуев В.Ю., Хршановский В.А. (ред.). Погребальная культура Боспорского царства. Материалы Круглого стола, посвященного 100-летию со дня рождения М.М. Кубланова. Санкт-Петербург: Нестор-История, 155—161.
- Тульпе И.А., Хршановский В.А. 1994. Жернова на некрополе. В: Дмитриев Т.Н., Хршановский В.А. (ред.). Вещь в контексте культуры: материалы научной конференции. Санкт-Петербург: Институт истории материальной культуры, 108—109.
- Ханутина З.В., Хршановский В.А. 2003. Ритуальные сооружения на некрополе Илурата. БИ III, 315—328.
- Хршановский В.А. 2014. Асинхронные вещи в погребально-поминальных комплексах и святилищах (по материалам некрополей Китея и Илуратского плато). В: Зинько В.Н., Зинько Е.А. (ред.). БЧ XV. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные проблемы хронологии. Керчь: Крымское отделение Института востоковедения, 433—438.
- Хршановский В.А. 2015. Круглые святилища на илуратском плато: Проблемы хронологии и этнокультурной принадлежности. Таврические студии. Исторические науки 7, 142—147.
- Хршановский В.А. 2017. Тризны на грунтовых некрополях Боспора (по материалам раскопок некрополей Илуратского плато и Китейской равнины). Таврические студии. Исторические науки 12, 158—166.
- Шауб И.Ю. 2007. Миф, культ, ритуал в Северном Причерноморье (VII—IV вв. до н.э.). Санкт-Петербург: СПбГУ.
- Штаерман Е.М. 1961. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. Москва: АН СССР.
- Ярцев С.В., Зубарев В.Г., Бутовский А.Ю. 2015. В: Масленников А.А. (ред.). Греко-варварский Крым в период поздней античности (III—IV вв. н.э.: от морских походов до битвы при Адрианополе). Тула: ТГПУ им. Л.Н.Толстого.
- Caro G. 1943. An Attic cemetery: Excavations in the Kerameikos at Athens under Gustav Oberlaender and the Oberlaender Trust. Philadelphia: The Oberlaender Trust.
- Cumont F. 1942. Recherches sur le Symbolisme Funéraire des Romains. Paris: Paul Geuthner (Haut-Commissariat de l'État Français en Syrie et au Liban. Service des Antiquités, Bibliothèque archéologique et historique. T. XXXV).
- Cumont F. 1959. After life in Roman Paganism. New York: Dover.
- Farnell L.R. 2010. The Cults of the Greek states. Cambridge: Cambridge University Press.
- Matz F. 1958. Ein römisches Meisterwerk: Der Jahreszeitensarkophag Badminton. New York; Berlin: Walter de Gruyter and Co.
- Nilsson M.P. 1957. The Dionysiac mysteries of the Hellenistic and Roman age. Lund: Gleerup (Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae. Series 8. Vol. V).
- Nilsson M.P. 1976. Geschichte der griechischen Religion. Bd. 1. Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft. München: Beck.
- Richmond J.A. 1950. Archaeology and the After-Life in Pagan and Christian Imagery (University of Durham: Riddell Memorial Lectures). Oxford: Oxford University Press.
- Simon E. 1998. Die Götter der Griechen. München: Hirmer.
- Turcan R. 1966. Les Sarcophages romains à représentations Dionysiaques: Essai de Chronologie et d'Histoire Religieuse. (Bibl. des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 210.). Paris: E. de Boccard.
- Wendland P. 1907. Die hellenistisch-römische kultur in ihren beziehungen zu judentum und christentum. Tübingen: J.C.B. Mohr.