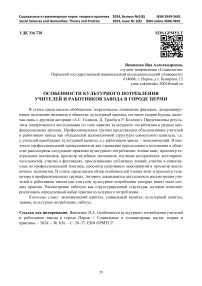Особенности культурного потребления учителей и работников завода в городе Перми
Автор: Якименко Я.А.
Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1 (8), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено обобщенное теоретическое понимание факторов, детерминирующих положение индивида в обществе, культурный капитал, согласно теории Бурдье, включая связь с другими авторами (А.С. Голиков, Д. Тросби и Р. Коллинз). Представлены результаты эмпирического исследования по теме практик культурного потребления в разных профессиональных группах. Профессиональные группы представлены объединениями учителей и работников завода как обладателей ассиметричной структуры совокупного капитала, т.е. у учителей преобладает культурный капитал, а у работников завода - экономический. В контексте профессиональной принадлежности как отражения определенного положения в обществе рассмотрены следующие практики культурного потребления: чтение книг, просмотр театральных постановок, просмотр музейных экспонатов, изучение исторических достопримечательностей, участие в фестивалях, прослушивание публичных лекций, участие в симпозиумах по профессиональной тематике, просмотр спортивных мероприятий и просмотр выставочных экспонатов. В статье представлен обзор особенностей чтения книг и просмотр телевизора в профессиональных группах. Автором доказывается актуальность рассмотрения учителей и работников завода как статусов, культурное потребление которых имеет мало схожих практик. Рассмотрение габитуса как структурирующей структуры, которая позволяет реализовать определенный набор практик культурного потребления.
Экономический капитал, социальный капитал, культурный капитал, знания, культурное потребление, габитус
Короткий адрес: https://sciup.org/147244713
IDR: 147244713 | УДК: 316.728
Текст научной статьи Особенности культурного потребления учителей и работников завода в городе Перми
В социуме есть множество социальных групп, основанных на самых разных факторах, – хобби, работа, место проживания и проч. [1]. Все эти факторы, согласно теории Пьера Бурдье, можно отнести к следствию экономического, социального или культурного капиталов индивида [2].
Первичным является экономический капитал, т.к. он есть своего рода основа, имеющая в виде надстройки культурный и социальный капиталы [3]. Именно поэтому экономический капитал имеет наибольшую ценность в обществе среди других форм капитала. Институционализированным проявлением данного вида капитала является право собственности. Именно право собственности является формой организации экономических отношений с присущими ей правилами, нормами и их регуляцией.
Экономический капитал конвертируется в деньги, а деньги есть элемент рыночных отношений. По мнению Карла Маркса, человек всегда будет включен в эти отношения, следовательно, деньги есть неотъемлемая часть капитала [4]. Это обусловливает возможность преобразования символического и культурного капиталов в экономический.
Объем экономического капитала зависит от количественных и качественных характеристик собственности, а также от объема денежных средств, которыми обладает индивид.
Социальный капитал непосредственно связан с членством в той или иной группе, связи в которой институционализированы в форме отношений взаимного знакомства и призна- ния. Именно принадлежность к социальной группе дает членам сообщества доступ к коллективному капиталу, который включает в себя совокупность ресурсов всех членов группы. Помимо предоставления ресурсов, группа является показателем статуса своих членов. За счет принадлежности к какой-либо группе индивид приобретает определенный социальный статус, который Бурдье выражает с помощью понятия репутации. В зависимости от характера репутации индивид имеет возможность получать кредиты, своего рода займы в различных областях жизни. Также необходимо отметить, что основой группы является феномен солидарности. С одной стороны, солидарность зависима от прибыли, которую приносит индивид в группу, с другой – дает ему возможность извлекать прибыль из коллективного капитала группы, причем как намеренно, так и неосознанно.
Формой институционализации социального капитала является аристократический титул. Таким образом, аристократический титул гарантирует определенное проявление длительных социальных отношений.
Объем социального капитала зависит от двух переменных: размера сети связей, которые индивид может мобилизовать, и объема других форм капитал у членов его сети связей. Размер сети связей постоянно видоизменяется по причине того, что эти сети не являются социальной данностью. Сеть является динамичной системой, которая включает в себя нескончаемый цикл по институциональному оформлению. Институционализация происходит посредством обрядов.
Обряд посвящения представляет собой инвестиционные стратегии, как индивидуальные, так и коллективные, сознательно или бессознательно нацеленные на трансформацию случайных связей в социальные отношения. Этот обряд есть таинство посвящения, которое направлено на установление и воспроизводство социальных отношений. Оно реализуется посредством символического установления связи. Связи, в свою очередь, поддерживаются процессом обмена благами, которыми могут выступать дары, слова и другие ресурсы. Социальный институт, в рамках которого устанавливаются отношения, предопределяет характер блага, обмениваемого членами группы. Важно отметить, что для каждого нового члена группы будут изменятся требования, т.к. с приходом нового члена группа поменялась, изменился коллективный капитал, репутация членов группы, т.е. группа, а именно сеть отношений в ней является динамичной системой, как и сеть связей.
Далее идет процесс перехода от таинства посвящения к следующему обряду. В процессе обмена блага приобретают символичность и становятся знаками признания, которые подразумевают взаимное знание и признание, т.е. член группы признает других, а также признает свое членство в данной группе.
В группе все члены друг друга признают, следовательно, есть и другие индивиды, которые не признаны членами сообщества, которые находятся за границами данной сети отношений. Посредством конститутивного обмена устанавливаются границы сообщества, за которыми не происходит никакой обмен. Данный обмен направлен на установление связей, которые будут выгодны членам сообщества. Примером конституирующего обмена являются совместные трапезы, в процессе которых устанавливаются связи, которые в перспективе могут перерасти в отношения и, следовательно, принести новых членов в группу, а это является важнейшим компонентом, необходимым для существования и выживания данной группы.
Для процесса наращивания и воспроизводства социального капитала индивиду необходимо обладать как временны́ ми, так и экономическими ресурсами. Труд, направленный на поддержание социального капитала, пропорционален объему капиталов. Чем выше уровень экономического, культурного или социального капиталов, тем меньше нужно усилий и затрат на приобретение продолжительных связей. Также данный феномен аналогично проявляется при наследовании. Унаследовавший знаменитое имя, человек тратит меньше усилий на построение отношений, т.к. индивидам важно иметь связи с тем, кто имеет известное имя, т.е. другие готовы отдать больше ресурсов, чтобы выстроить отношения с данным индивидом.
Данная форма капитала объясняет процесс обмена символами, не объясняя само знание о символах. Это социолог отразил в категории культурного капитала , выделив в нем три состояния: инкорпорированное, объективированное и институционализированное.
Инкорпорированное состояние подразумевает принадлежность субъекту, т.е. культурный капитал существует только тогда, когда существует сам субъект. Его воплощениями являются длительные диспозиции ума и тела. Посредством процесса инкультурации индивид приобретает различные знания и умения, т.е. наращивает свой культурный капитал. Рассматривая знания в концепции символизма, Коллинз определяет культурный капитал как сред-ство/ресурс (знания), позволяющий расшифровать символы окружающего мира [5, с. 29].
Данные компетенции невозможно унаследовать, на их приобретение необходимо потратить как временные ресурсы, так и собственные усилия.
В свою очередь, помимо знаний, навыков и умений, Бурдье отводит отдельное место предметам материальной культуры, не сводя их к экономическому капиталу.
Объективированное состояние культурного капитала представляет собой различные предметы искусства, изобретения, предметы архитектуры и т.д. Данные элементы могут передаваться материально. Причем процесс передачи намного легче, чем передача экономического капитала, т.к. перевод капитала происходит в более скрытой форме. Например, индивид унаследовал определенную сумму денежных средств, этот факт зафиксирован в налоговой службе. Индивид унаследовал коллекцию картин, эта коллекция не имеет фиксированной цены, из чего эта коллекция может стоить дороже, чем унаследованная сумма денежных средств, но передача будет происходить в более скрытой форме. Человеку, не обладающему знаниями относительно данной коллекции картин, будет невозможно определить ее ценность как в экономическом, так и в культурном плане.
Из этого вытекает взаимосвязь объективированного состояния культурного капитала с инкорпорированным. С одной стороны, обладателю предметов материальной культуры требуется знание о том, как использовать, например, машину. Автовладельцу необходимо либо самому уметь водить, либо нанять человека, который обладает данными знаниями. Таким образом, объективированному культурному капиталу необходим инкорпорированный, т.к. он позволяет агенту воплощать и инвестировать данный капитал. С другой – важно понимать, что объективированное состояние культурного капитала не сводится к одному или группе агентов. Отчасти это автономный мир, имеющий свои законы, который превосходит волю отдельно взятого индивида.
Взаимосвязь объективированного состояния культурного капитала с инкорпорированным рассматривал и Дэвид Тросби. Ориентируясь на экономическую теорию, он определяет культурный капитал как актив, который способен воплощать, хранить и обеспечивать культурную ценность в дополнение к экономической ценности, которой он обладает.
Согласно экономическому пониманию, капитал – стоимость, направленная на получение прибавочной стоимости. Таким образом, культурный капитал в своих формах порождает поток капитальных услуг, а именно: конечное потребление и производство дополнительных товаров или услуг. Картина, в совокупности с затратами музея, является предметом потребления в картинной галерее. При этом данная форма культурного капитала для определенной социальной группы может стимулировать производство дальнейших работ: например, художник, увидев картину, увеличил таким образом свой культурный капитал и получил вдохновение на создание нового произведения искусства [6].
Чтобы подтвердить свои знания и умения, которые также нужны и для использования предметов материальной культуры, необходимо их легитимировать в обществе, т.е. институционализировать.
Формой институционализации культурного капитала являются академические квалификации. Отчасти академическая квалификация подразумевает овладение знаниями, что включается в диспозиции ума и тела, т.е. является неотъемлемой частью субъекта, следовательно, также ограничено его биологическими рамками. Квалификации легитимированы в качестве ценности, в отличие от капитала «самоучки», который не подтвержден никакой образовательной организацией.
Голиков дополнил понятие культурного капитала категориями: компетентность в значимостях и компетентность в значениях [7]. Первая позволяет актору различать капитально значимые ресурсы, которые окажут заметное влияние на культурный капитал индивида, от капитально незначимых, не стоящих инвестированного времени. Эта компетентность дает возможность актору быть более успешным, например, в профессиональной сфере. Если индивид понимает значимость приобретения профессиональных навыков, то его инвестирование времени будет рациональным, т.е. направленным на усвоение тех профессиональных знаний, которые будут ценными в последующем процессе конкуренции. Вторая представляет собой непосредственно умения, навыки и знания, причем знания трактуются широко и включают в себя также знания культуры, традиций, норм и образцов поведения. Компетентность в значимостях капитализирует компетентность в значениях, т.е. присваивает стоимость определенным знаниям и навыкам, и является, безусловно, определяющей в условиях конкуренции.
Профессиональная стратификация является той формой расслоения общества, которая связана непосредственно как со знаниями и умениями, так и с академическими квалификациями. Данную форму стратификации рассматривали Davis K. и Moore W.E. в работе «Некоторые принципы стратификации» [8]. Через призму структурно-функционального понимания социальной структуры социологи утверждают, что стратификация есть функциональная необходимость общества.
Таким образом, акторы распределены в социальном поле согласно их экономическому состоянию, членству в какой-либо группе, а также уровню знаний, квалификации и совокупности объектов, имеющих культурную значимость для индивида. Этот совокупный капитал довольно ассиметричен в сравнении группы промышленников, в качестве которых приведены работники завода, и учителей как представителей сферы образования. Бурдье утверждал, что уровень культурного капитала выше у учителей, а уровень экономического – у работников завода [9]. Положение в обществе индивид должен демонстрировать через разные аспекты, в том числе и с помощью культурного потребления. Культурное потребление – определенные практики, связанные с особым жизненным стилем, вкусом, классовой принадлежностью и т.д.
Данное исследование посвящено изучению практик культурного потребления как отражению объема совокупного культурного капитала, асимметричного среди групп учителей и работников завода. У учителей и работников завода есть определенные возможности, которые продиктованы уровнем знаний, квалификацией, а также уровнем дохода. Необходимо рассмотреть, какие практики культурного потребления характерны для данных групп. Какие практики реализуются только с помощью определенных знаний, а какие не требуют глубоких познаний в теме.
В современном мире появилось больше возможностей в связи с развитием общества в целом, форм перемещения индивида в пространстве, форм итераций индивида, форм наращивания культурного капитала (знаний, умений, квалификаций и предметов, обладающих определенной ценностью) [10, с. 110–111]. Современное образование включает в себя множество интенсивов, направленных на изучение нового материала в сжатые сроки, именно эти интенсивы и их результаты легитимированы в обществе. Сегодня для просмотра спортивного матча не нужно преодолевать большие расстояния в любых погодных условиях, нужен лишь доступ к телевизору или интернету, которые позволят воспроизвести данную практику культурного потребления.
Таким образом, совокупность возможных практик культурного потребления увеличивается. Возникает вопрос, по-прежнему ли практики культурного потребления отражают принадлежность к группе обладателей определенного совокупного капитала?
Для ответа на него рассмотрим практики культурного потребления учителей школы МАОУ «СОШ № 83» г. Перми и работников завода ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Целевая выборка включает в себя 50 представителей первой профессиональной группы и 50 – второй. Выборка построена на теоретической модели Бурдье. Учителя и работники завода – обладатели ассиметричного объема культурного и экономического капиталов, что позволит увидеть различия в культурном потреблении, т.к. именно знания и денежная составляющая сокращают круг возможностей культурного потребления.
Исследование основано на функциональном структурализме Пьера Бурдье. Именно структура, положение индивида в ней детерминирует реализацию определенных функций.
Методом исследования выступает опрос, а именно – раздаточное анкетирование.
К практикам культурного потребления в данном исследования причислены: прослушивание музыки, чтение книг, просмотр фильмов и сериалов, просмотр театральных постановок, просмотр музейных экспонатов, изучение исторических достопримечательностей, участие в фестивалях, прослушивание публичных лекций, участие в конференциях по хобби, участие в симпозиумах по профессиональной тематике, просмотр спортивных мероприятий и просмотр выставочных экспонатов .
Частота воспроизводства данных практик оценивалась респондентами в табличном вопросе по следующей шкале: каждый день, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц, раз в месяц, раз в 2–3 месяца, раз в 6 месяцев, раз в год, реже чем раз в год, никогда.
В результате исследования выявлено, что наблюдается связь между профессиональной принадлежностью (учитель/работник завода) и частотой реализации практик культурного потребления.
Работники завода воспроизводят большую часть данных практик реже, чем учителя. Однако именно работники смотрят спортивные мероприятия чаще, чем учителя .
В отношении остальных случаев можно сделать следующие выводы:
-
1) учителя читают книги чаще, чем работники завода;
-
2) учителя изучают исторические достопримечательности чаще, чем работники завода;
-
3) учителя участвуют в симпозиумах по профессиональной тематике чаще, чем работники завода;
-
4) учителя просматривают театральные постановки чаще, чем работники завода;
-
5) учителя просматривают выставочные экспонаты чаще, чем работники завода;
-
6) учителя просматривают музейные экспонаты чаще, чем работники завода;
-
7) учителя прослушивают публичные лекции чаще, чем работники завода;
-
8) учителя участвуют в фестивалях чаще, чем работники завода.
Изучение книг, достопримечательностей, театральных постановок, экспонатов, лекций и прочего довольно сложный процесс, поскольку дешифрование этих символов доступно индивиду с высоким уровнем знаний. Таким образом, уровень инкорпорированного культурного капитала (знания и умения) отчасти обуславливает частоту реализации практик культурного потребления.
Данные различия могут быть детерминированы особенностями профессиональных обязанностей учителей.
Например, учителя начальных классов школы № 83 ежегодно принимают участие в фестивале «Милый край – сторонушка родная», основанном на базе школы, т.е. это внутренний фестиваль, помимо которого учителя посещают разные учреждения со своими учениками. Учителя среднего и старшего звена помимо собственных походов в театр устраивают по- ездки всему классу примерно раз в триместр. Во время внеурочной деятельности учителя начальных классов ездят на экскурсии с классом (согласно утвержденному плану кружка «Краеведческий туризм») в музеи, на выставки, к историческим достопримечательностям и т.д. Каждый понедельник в школе проходит педагогический совет, на повестке которого примерно раз в 1–2 месяца проходит своего рода симпозиум. Помимо этого, учителя часто ездят на курсы повышения квалификации и проч. Таким образом, профессиональная деятельность учителя предполагает данные практики культурного потребления в качестве своего рода обязанностей.
Для изучения особенностей культурного потребления внутри практик в профессиональных группах приведено детальное рассмотрение предпочтений в двух довольно распространенных практиках: чтение книг и просмотр телевизора.
Предпочтения в контенте телевидения маркировались, исходя из вопроса: «Что Вас больше всего интересует на телевидении?» Список контента включал в себя следующие компоненты: экономические новости, политические новости, спорт, музыкальные переда-чи/ток-шоу, художественные фильмы/спектакли, документальные/исторические фильмы/ научно-познавательные передачи, сериалы/детективы и др .
Из множества разного контента телевидения выявлена связь между профессиональной принадлежностью (учитель/ работник завода) и интересом к экономическим новостям, спортивным передачам, художественным фильмам и спектаклям, а также документальным, историческим и научно-познавательным передачам.
Работники завода в 4,5 раза чаще интересуются экономическими новостями по телевидению, чем учителя . Возможно, это связано с довольно специфичной выборкой (большинство опрошенных учителей – женщины, а большинство опрошенных работников завода – мужчины). Возможно, именно здесь проявляется тот факт, что у работников завода более высокий экономический капитал, что детерминирует практику слежения за экономическими новостями по телевидению.
Исходя из факта, что « работники смотрят спортивные мероприятия чаще, чем учителя », можно предположить, что работники завода интересуются спортивными передачами по телевидению. Согласно показателю, работники завода примерно в 9,3 раза чаще интересуются спортивными передачами по телевидению, чем учителя.
Художественные фильмы/ спектакли отчасти связаны с профессиональной деятельностью учителя: например, для подготовки к уроку литературы или музыки необходимо изучить подобные материалы, в т.ч. по телевидению, если есть возможность. Исходя из этого, в рамках исследования было выдвинуто предположение о том, что учителей чаще интересуют художественные фильмы и спектакли на телевидении, чем работников завода. Действительно, учителя примерно в 6,6 раз чаще заинтересованы в художественных фильмах в качестве контента телевидения, чем работники завода. Т.е. среди интересующихся художественными фильмами на телевидении на 13 учителей приходится примерно 2 работника завода.
Работники завода в 2,4 раза реже интересуются таким контентом телевидения, как документальные, исторические фильмы и научно-познавательные передачи, чем учителя. Что также обусловлено набором практик культурного потребления, которые учителя осуществляют чаще, чем работники завода.
Таким образом, можно говорить о том, что учителя чаще интересуются документальными, историческими фильмами и научно-познавательными передачами, а также художественными фильмами и спектаклями, чем работники завода. Интерес к экономическим новостям и спортивным передачам на телевидении выше среди работников завода, чем среди учителей.
Теперь следует рассмотреть другую практику культурного потребления, чтобы выявить особенности в предпочитаемой литературе в разных профессиональных группах.
Вопрос о предпочитаемой литературе был задан следующим образом: «Какую литературу Вы обычно читаете (выберите не более трех ответов)?»
Варианты ответа следующие: художественная литература, по специальности, научно-популярная, религиозная, философская, по кулинарии, по саморазвитию от коучей, по искусству, астрологическая литература/эзотерика, нон-фикшн, эротическая литература, классическая литература и др. Данный категориальный вопрос перекодирован в набор дихотомических переменных.
Сравним три наиболее популярных литературных жанра в группе учителей и работников завода. В группе учителей предпочитают: художественную литературу (32,6% учителей), литературу по специальности (25,2% учителей), а также классическую литературу (14,1%). Что объясняет, по сути, стиль жизни учителя, который развивает знание символов в этих областях литературы, чтобы потом воспроизводить характерные для статуса «Учитель» практики.
Работники завода указали следующие приоритеты в литературных жанрах: художественная литература (29,4% работников завода), научно-популярная литература (16,7 % работников завода), а также категория «Другое» (13,7% работников завода). Категория «Другое» включает в себя следующие ответы работников завода: военная тематика, историческая, рыбалка и фантастика.
Таким образом, художественная литература является лидером как предпочитаемый литературный жанр в обеих профессиональных группах. Учителя читают классическую литературу и литературу по специальности почти каждый рабочий день, который предполагает наличие уроков, подготовка к которым и детерминирует данные литературные жанры. Работники завода предпочитают науч-поп как литературный жанр, а также литературу, связанную с хобби (рыбалка/ изучение военных событий).
Заключение
Исходя из полученных данных, можно выдвинуть следующие тезисы:
-
1. Существует связь между профессиональной принадлежностью и выбором практик культурного потребления. Профессиональная принадлежность учителей и работников завода связана с ассиметричной структурой культурного и экономического капиталов. Учителя чаще осуществляют следующие практики культурного потребления: чтение книг, просмотр театральных постановок, просмотр музейных экспонатов, изучение исторических достопримечательностей, участие в фестивалях, прослушивание публичных лекций, участие в симпозиумах по профессиональной тематике и просмотр выставочных экспонатов. Данные практики реализует индивид с более высоким уровнем культурного капитала, который характерен для социально статуса «Учитель». Особенности культурного потребления работников завода выявлены в интересе к спортивным мероприятиям, а также экономическим новостям, что, возможно, связано с особенностью гендерной структуры в выборке (большая часть опрошенных учителей – женщины, а большая часть опрошенных работников завода – мужчины).
-
2. Практики представителей данных групп внутри объединений являются довольно схожими, поскольку схему интерпретации книг можно перенести на театр и т.д. Данные практики культурного потребления обязаны сродством стиля, как говорил Бурдье, т.е., выражаясь в концепции габитуса, практики – структурированные продукты, которые произведены одной и той же структурирующей структурой. Схема восприятия одна и может распространятся на множество практик, например, учителя чаще просматривают выставочные экспонаты, а также музейные экспонаты. Принцип потребления довольно схож: изначально воспринимаются формы (печатная машинка, дом и т.д.), затем на смену приходит эмоциональное восприятие, и самым глубоким типом восприятия является восприятие определенно-
- го произведения/продукта, соотнося его с другими произведениями/продуктами схожих стилей/ эпох/ творцов и т.д.
-
3. Различия культурного потребления учителей не является случайными: именно схожие схемы восприятия структурируют систему, что делать можно и легко, а какие практики являются непозволительными [11]. Таким образом, практики потребления позволяют индивидам демонстрировать свое отличие друг от друга, что основано на особой целостности габитуса как структурирующей структуры. Система классифицирующих схем учителя не сможет перестроиться полностью на схему работника завода, поскольку у учителя есть своя схема выверенных черт, ассоциируемых с самим собой. Именно воспроизводство практик просмотра театральных постановок, участия в фестивалях, чтения книг помогает особым образом классифицировать учителей, а просмотр спортивных мероприятий – работников завода. Данная классификация является ничем иным, как отражением социального статуса, выражением того или иного класса условий существования, что может прослеживаться в категории «стиль жизни», отчасти раскрытый во взаимосвязи культурного капитала как фактора стратификации, и практик культурного потребления как средства отражения классовой принадлежности. Именно вкусовые предпочтения и стиль жизни (как феномены, связанные с культурным капиталом) побуждают сделать определенный выбор, в т.ч. и в контексте культурного потребления. Данное исследование исходило из тезиса: практики культурного потребления ассоциируются с разными социальными статусами, они организуются в соответствии с условиями существования классов. В качестве основного различия избрана профессиональная принадлежность как отражение групп, имеющих асимметрию в соотношении культурного и экономического капиталов. Таким образом, подтвердилось, что практики, которые схожи по структуре, действительно воспроизводит одна из двух выбранных групп – учителя. Данные практики также соответствуют высокому уровню культурного капитала, что отражает схожесть структурирующей структуры (габитуса) учителей. Несмотря на то, что все эти практики с точки зрения близости являются легкодоступными, особенно с началом пользования интернетом, индивиды распределяются по данным практикам в соответствии со своими ресурсами, со своими квалификациями, знаниями, умениями и т.д., поскольку у представителей разных групп своя особая схема структурирующих структур (габитус), которая сопряжена с определенным вкусом, стилем жизни и потреблением.
Список литературы Особенности культурного потребления учителей и работников завода в городе Перми
- Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1. С. С. 35–52.
- Bourdieu P. Distinction: А Social Critique of the Judgment of Taste. London: Routledge/Kegan Paul, 1984. 613 p.
- Bourdieu P. Forms of Capital / P. Bourdieu, in: Granovetter, M. and R. Swedberg (eds.) //The Sociology of Economic Life. 2nd ed. Boulder: Westview Press, 2001. Р. 98–102.
- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии: монография [Текст]: в 3-х т. / К. Маркс; пер. с англ. Степанова-Скворцова И.И. М.: Госполитиздат, 1952. Т. 1. 794 с.
- Коллинз Р. Социология философии: глобальная теория интеллектуального изменения / пер. с англ. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 1280 с.
- Throsby D. Cultural capital // Journal of Cultural Economics. 1999. №. 23(1). P. 3–12.
- Голиков А.С. Капиталы, ресурсы, доступы, озможности: констеллятивный дизайн социокультурных неравенств // Socioпростip: the interdisciplinary Collection of scientific Works on sociology and social Work. 2009. № 844. С. 69–73.
- Davis K., Moore W.E. Some Principles of Stratification // American Sociological Re-view. 1944. Vol. 10, № 2. P. 242–249.
- Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая социология. 2005. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razlichenie-sotsialnaya-kritika-suzhdeniya (дата обращения: 11.05.2024).
- Корсунова В.И., Волченко О.В. Использование интернета и культурное потребление в странах Европы: сравнительный анализ // Мониторинг. 2019. №4 (152). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interneta-i-kulturnoe-potreblenie-v-stranah-evropy-sravnitelnyy-analiz (дата обращения: 08.04.2024).
- Шматко Н.А. Габитус в структуре социологической теории // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. № 2. С. 60–70.