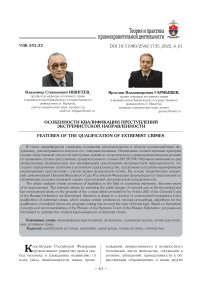Особенности квалификации преступлений экстремистской направленности
Автор: Ишигеев Владимир Степанович, Гармышев Ярослав Владимирович
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (49), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются отдельные положения законодательства в области противодействия экстремизму, рассматриваются вопросы его совершенствования. Определены соответствующие критерии оценки общественной опасности преступных деяний на теоретическом и правоприменительном уровнях по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ. Обращено внимание на ряд дискуссионных формулировок при квалификации преступлений экстремистской направленности, что создает определенные проблемы в уголовном судопроизводстве, предложены алгоритмы квалификации анализируемых преступлений с учетом правил формальной логики. На основе теоретических концепций, рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской Федерации формулируются предложения по оптимизации уголовно-правовой оценки преступлений экстремистской направленности.
Квалификация преступлений, экстремизм, социальная группа, мотив преступления, уголовное право
Короткий адрес: https://sciup.org/140296556
IDR: 140296556 | УДК: 343.23
Текст научной статьи Особенности квалификации преступлений экстремистской направленности
К онституция Российской Федерации провозглашает равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис- хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, что предопределяет целесообразность разработки централизованной национальной политики [14, с. 112]. При этом общественная опасность экстремизма представляет собой угрозу не только национальной безопасности России, но и международной стабильности [10, с. 30].
Определение содержания таких понятий, как «экстремизм» и «преступления экстремистской направленности», их соотношение между собой – достаточно сложные вопросы, которые еще не в полной мере решены в теории уголовного права.
Отметим, что преступление экстремистской направленности характеризует факт совершения противоправного деяния по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной, социальной ненависти или вражды [15, с. 87]. В настоящее время в юридической литературе существует большой объем различных определений экстремизма, экстремистской деятельности, вместе с тем системного определения экстремистской деятельности в теории права не предложено [2, с. 13]. Как указывают В.А. Мишланов и В.А. Салимовский, в судебной практике возможны определенные ошибки, связанные с подменой понятия «экстремистская деятельность», содержание и объем которого определены законом, обыденными представлениями об экстремизме как приверженности любым крайним взглядам в социальной сфере. Под данное «обыденное» понятие зачастую подводится неопределенно широкий круг асоциальных явлений, например содержание брошюры, «в которой высказывалась необходимость воздерживаться от переливания крови» [17, с. 85].
Системный обзор особенностей содержания правовых норм об ответственности за экстремизм позволяет сделать вывод о неполноте законодательства в сфере уголовно-правового [20, с. 161] и криминологического [21, с. 211-212] противодействия данному явлению. Необходимость дополнения законодательства предопределяется тем, что в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» перечень признаков экстремизма уже не в полной мере соответствует новым угрозам и вызовам, которые возникают в настоящее время перед российским государством. В свое время в рамках законодательных инициатив предлагалось расширить перечень видов экстремистской деятельности путем отнесения к ним, в частности, массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также создание печатных, иных материалов для публичного использования, если в них содержится хотя бы один признак экстремистской деятельности [10, с. 34].
Достаточно оригинальным в теории права предлагается решение вопроса по совершенствованию антиэкстремистского законодательства. Так, С.А. Бурьянов полагает, что Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» служит инструментом наиболее массовых и системных преследований и на сегодняшний день наблюдается также бессмысленная, беспощадная и, по своей сути, антиправовая борьба с так называемым «религиозным экстремизмом…» [5]. Полагаем, что вышеуказанная точка зрения не отражает стратегию развития гражданского общества России, где закон не является инструментом для подавления прав и свобод граждан. Необходимы только точечные корректировки законодательства, которое отражало бы соответствующий уровень развития общества (социальные волны) и соответствовало положениям теории права [7; подр.: 9, с. 111].
В п. 7 постановления от 28 июня 2011 г. N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» Пленум Верховного Суда Российской Федерации в целях единообразия процесса правоприменения по противодействию преступлениям экстремистской направленности определил, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной груп- пе, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации. В этой связи отметим, что на сегодняшний день некоторые сложности в судебной практике вызывает правовая оценка действий, связанных с распространением экстремистских материалов в сети Интернет. Веб-сайты социальных сетей, в которых размещены материалы экстремистского содержания, представляют собой значительную опасность в контексте наличия в них откровенных идей ненависти и изображений, подталкивающих к насилию, которые к тому же легко доступны и рассчитаны на привлечение новых участников, особенно из числа молодежи. Однако немаловажным препятствием в рамках следственных мероприятий и установления признаков состава преступления в отношении функционирования подобных веб-сайтов, которые нарушают ан-тиэкстремистское законодательство, является недостаточная подготовка сотрудников полиции по техническим вопросам, связанным с определением места происхождения сайтов и установлением лиц, ответственных за работу этих сайтов, и лиц, размещающих на них материалы [6, с. 98]. Кроме всего прочего, определенные действия пользователей, например нажатие кнопки «нравится» или значка с изображением сердца, достаточно часто оценивались правоприменителем как проявление экстремизма. Вместе с тем некоторые граждане, особенно представители старшего поколения, плохо знакомы с принципами работы социальных сетей, у них может отсутствовать информация о функциональном значении используемых элементов управления («кнопок»), и, как следствие из всего вышеуказанного, у лица далеко не всегда не выражен преступный умысел в классическом его понимании [2, с. 52].
Мотив ненависти или вражды является основным системообразующим признаком состава преступлений экстремисткой направленности. Данный подход также характерен и для зарубежного законодательства. Преступления с такой мотивацией посягают на отношения в сфере реализации конституци- онного принципа равноправия граждан и, как следствие, на основы конституционного строя. Однако можно встретить критику такого подхода, так как основным критерием классификации преступлений должен выступать объект состава преступления, но никак не иные признаки, в том числе мотив [8, с. 50; 18, с. 410]. Отмечая дискуссионность и неоднозначность рассматриваемых вопросов, полагаем, что российский законодатель в целом принял правильное решение, криминализировав экстремистские деяния. Хотя по некоторым вопросам присутствует некоторая противоречивость и непоследовательность.
В теории уголовного права указывается, что одна из проблем уголовно-правого механизма ответственности за преступления экстремистской направленности связана с характеристикой терминов «ненависть» и «вражда». Так, некоторыми исследователями отмечается, что термин «вражда» является излишним, затрудняет понимание правовой природы преступления. Кроме того, согласно правилам законодательной техники данные термины целесообразно разграничивать, однако в правоприменительной деятельности зачастую этого не происходит [4, с. 4].
Верховный Суд Российской Федерации достаточно осторожно рекомендует не путать вражду с ненавистью. Высшая судебная инстанция не раз с сожалением констатировала, что термины «вражда» и «ненависть» соседствуют во всех приговорах по экстремизму [6, с. 100]. Некоторые судьи Верховного Суда Российской Федерации вообще предлагают исключить из уголовного законодательства одно из этих слов, поскольку в законе «ненависть» и «вражда» прописаны через союз «либо» и для квалификации преступлений хватило бы одного из этих понятий (например, «ненависти»). Представляется, что по правилам русского языка два анализируемых понятия различны, следовательно, и в судебном решении судом должна быть дана четкая квалификация действий виновных лиц – либо они враждуют, либо ненавидят. Думается, для решения вышеуказанной проблемы в качестве экстремистского мотива законодателю следует оставить только ненависть, исключив мотив вражды, так как термин «вражда» характеризует не побуждения, а объективно существующие отношения, основанные на взаимной ненависти, а не ее сочетание с враждой, которая предопределяет внутреннюю составляющую преступления. Помимо этого в юридической литературе предлагается также рассматривать еще один мотив – рознь, однако полагаем, что это преждевременно, так как это еще больше запутает правоприменителя при детализации мотивов анализируемой группы преступлений [22, с. 12].
Преступлениям экстремистской направленности свойственны избирательность действий, стремление продемонстрировать свое резко негативное отношение не к обществу в целом, а применительно к отдельной его части (социальной группе). Виновные при этом могут полагать, что действуют на благо всего общества, относя себя к его основной и (или) «лучшей» части. Причем потерпевшим от таких действий может стать не любой человек, а только обладатель тех или иных вызывающих ненависть признаков, отличающих его от других и относящих к какой-либо социальной группе.
Некоторые сложности в квалификации преступлений связаны также с разграничением экстремистских мотивов и мотивов личной неприязни, так как внутренней составляющей анализируемых деяний выступают чувство ненависти и неприязнь. Как отмечает Н.В. Стус, материалы судебной практики по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 282 УК РФ, свидетельствуют о том, что виновные лица не отрицают факта противоправных высказываний в адрес какой-либо группы людей, но возражают, что хотели возбудить ненависть или вражду, поясняя, что просто ссорились с соседями либо имели неприязненные отношения [19, с. 227].
Полагаем, что преступления экстремистской направленности характеризуются отвлеченностью от личных качеств жертвы. Так, основой преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, выступает факт того, что потерпевший принадлежит к враждебной виновному социальной группе. Можно сказать, что преступная ненависть в рамках рассма- триваемого преступления по своей природе является социальной. В этом смысле в юридической литературе совершенно обоснованно такие побуждения относят к социальным мотивам причинения вреда [15, с. 128].
На практике возможна конкуренция мотива ненависти в отношении какой-либо социальной группы не только с идеологической ненавистью, но и с другими экстремистскими мотивами. Здесь может возникнуть вопрос: какой мотив следует вменять виновному – религиозную ненависть или ненависть к социальной группе? В принципе, в рамках данной дилеммы усматриваются два указанных признака. Однако приоритет будет иметь мотив религиозной ненависти.
В юридической литературе указывается на неудачность использования в уголовном законодательстве терминов «социальная группа», «мотивы ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы», а также на необходимость их законодательного оформления [11, с. 129; 1, с. 87]. Проблема заключается в том, что законодателем использовано обобщенное словосочетание «какая-либо социальная группа» без детализации отличительных признаков такой группы.
Если обратиться к положениям социологии и энциклопедических источников, то усматриваются достаточно значительные расхождения в критериях выделения социальных групп (интересы, неравенство и др.), а также в отсутствии единства подхода к минимальному количественному составу социальной группы [23, с. 76]. Для уголовно-правового механизма ответственности за экстремизм недопустимо широкое толкование терминологии, нужна четкость в правовом регулировании. К социальным группам допустимо относить разнообразные социальные общности людей, критериями выделения которых могут служить профессиональный признак (врачи, ученые), образ жизни (бездомные) и другие признаки. Верховный Суд Российской Федерации также обеспокоен фактом того, что в законодательстве не установлено содержание дискуссионного понятия «социальная группа». Так, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Давыдов при обсуждении проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам об экстремизме заметил, что «в науке это один термин, а в нашей, уголовно-правовой, сфере – совсем другой» [6, с. 100]. Между тем этот термин встречается во всех преступлениях экстремистской направленности. В связи с этим В. Давыдов полагает комплексно определить в законодательстве предмет правового регулирования «чтобы не выделялись по собственной воле такие группы, как сотрудники правоохранительных органов», которые «и так защищены законом в большей степени, чем простые граждане». Судья предположил, что, вводя подобный термин, «законодатель хотел оттенить слабые, незащищенные группы, но сделал это крайне неудачно». Им было предложено толковать «социальные группы» ограничительно, а не расширительно, т.е. как «социально слабые группы» – пенсионеры, инвалиды, сироты и т.п. Однако Пленум Верховного Суда РФ так и не разъяснил некоторые важнейшие понятия, которые использованы законодателем при формулировании экстремистского мотива в статьях Особенной части УК РФ.
Конституционный Суд РФ также затронул данный вопрос в определении от 22 апреля 2010 г. N 564-О-О, согласно которому неопределенность содержащегося в оспариваемой норме понятия «социальная группа» влечет возможность необоснованных ограничений свободы выражения мнений и, как следствие, незаконного уголовного преследования граждан. Вместе с тем в данном вопросе Конституционный Суд РФ каких-либо дополнительных пояснений о правовой природе социальной группы не указал.
В связи с этим для уточнения правовой природы анализируемого понятия возникает необходимость конкретизации уголовно-правового содержания дефиниции «социальная группа». В диспозиции нормы указаны определенные характеристики объективных признаков состава деяния, однако не указаны, к примеру, имущественное и должностное положение, место жительства, убеждения.
Как совершенно справедливо отмечается в теории уголовного права, данные признаки могут лежать в основе выделения социальных групп, поскольку ни в одной норме Конституции РФ понятие «социальная группа» не используется, но при этом в ней говорится о социальной принадлежности, выделении социальных групп по приведенным признакам [23, с. 75].
В уголовно-правовой литературе социальная группа характеризуется как группа, определенная социальными признаками, которые могут быть формальными или неформальными, объединенная личностными или безличными отношениями людей, имеющих общие интересы [13]. Высказывается также точка зрения, что под анализируемым понятием следует понимать совокупность людей, которые в силу профессиональной деятельности, совершения систематических совместных действий, а равно открыто выражаемых личных, политических, религиозных и иных убеждений, предпочтений имеют общие интересы или формы самовыражения либо самоидентификации, не противоречащие закону [16, с. 6].
В одном из решений Верховного Суда РФ установлено, что к социальным группам следует относить группы людей, отличающиеся по признаку материального положения и места жительства1. Полагаем, что данный подход способствует размыванию границ в понятии «социальная группа», поскольку различные деяния могут быть признаны преступлениями экстремистской направленности. Факт противоправного деяния в отношении представителей каких-либо субкультур в современном обществе, совершаемого националистической группировкой, мотивирован главным образом враждебностью к ним в связи с неприятием системы их ценностей и взглядов. При этом социальная принадлежность потерпевших не является основой такого деяния. При квалификации преступлений необходимо применять принцип ограниченного толкования при установлении признаков деяний по мотиву ненависти в отношении какой-либо социальной группы и следует учитывать ту роль, которую выполняет она относительно всего общества, тогда как сами по себе половой признак, культурные характеристики не являются столь существенными для признания их социально значимыми. Таким образом, к группе можно относить два вида объединений: а) группу граждан, выделяемую на основе пола, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, убеждений, принадлежности к общественным объединениям; б) объединение лиц, осуществляющих совместную социально полезную или социально нейтральную деятельность, вступающих в общественные отношения именно как представители группы, т.е. устанавливающих в качестве таковых социальную связь с другими субъектами.
Представляется, что ключевое затруднение в выработке понятия социальной группы, приемлемого для квалификации преступлений, заключается в попытке соединить в одном понятии фактически две ее разновидности: 1) которая выделяется уже по факту наличия указанных в Конституции РФ признаков (пол, должностное положение и др.) и не требует установления взаимодействия между представителями группы; 2) которая основана на «других обстоятельствах» (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ) и часто определяется как раз с помощью наличия общих интересов. В специальных исследованиях предлагается эти виды разделять, поскольку вряд ли необходимо устанавливать взаимодействие внутри социальной группы, выделяемой по признаку пола, чтобы признать ее таковой [23, с. 77].
С учетом вышеуказанных обстоятельств относительно проблем правовой природы термина «социальная группа» показательным представляется следующий пример из следственно-судебной практики. Депутат Смоленского городского совета Е. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. По уголовному делу было установлено, что на заседании постоянной планово-бюджетной комиссии Смоленского городского совета 4-го созыва, проходившем в здании администра- ции города Смоленска, Е. публично допустил высказывания, содержащие признаки унижения достоинства бывших малолетних узников фашистских концлагерей как социальной группы. В ходе следствия потерпевшим признано Смоленское городское отделение Смоленской региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей в лице его представителя, а также 11 человек, относящихся к данной социальной группе. Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях Е. содержались признаки унижения достоинства группы лиц «бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» [6, с. 98].
Полагаем, что законодателю следовало бы привести исчерпывающий перечень отличительных признаков социальных групп и их представителей, вызывающих ненависть либо вражду виновных. Представляется, что такими признаками должны быть наиболее существенные из них, причем вызывающие ненависть либо вражду в самых крайних формах.
Определенные сложности при квалификации преступлений экстремистской направленности могут возникнуть при разграничении их с составом хулиганства по наличию одинакового мотива – ненависти или вражды. Установление законодателем в вышеуказанных составах формальной возможности сочетания хулиганских и «экстремистских» побуждений на уровне основного состава преступления (ч. 1 ст. 213 УК РФ) накладывает определенные ограничения на судебное толкование уголовного закона. В этой связи при закреплении признаков субъективной стороны экстремизма следует определить ключевые мотивы, исключить главенствующую роль мотивов иного характера, например конфликтных межличностных отношений, не допуская при этом возможности использования необоснованных версий о побуждениях содеянного во избежание преждевременных выводов, способствующих нарастанию межрасовой, межнациональной или межконфессиональной напряженности в обществе [24, с. 38].
В теории уголовного права и процессе правоприменения актуальным также явля- ется вопрос по разграничению составов, предусмотренных ст. 280 и 282 УК РФ. Так, например, С.В. Борисов в рамках разграничения анализируемых составов указывал, что публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по признакам состава преступления направлены главным образом на процесс формирования у других лиц желания совершать деяние, относящееся к экстремизму, и поступки данных лиц не обязательно основываются на мотивах ненависти либо вражды, однако деяние, предусмотренное ст. 282 УК РФ, направлено на возбуждение ненависти либо вражды к какой-либо социальной группе, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц. Следовательно, когда действия виновного, имея характер призыва к осуществлению экстремистской деятельности, одновременно направлены на возбуждение в других людях ненависти либо вражды или на унижение достоинства человека либо группы лиц по социально значимым признакам (признаку), содеянное в целом образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 280 и 282 УК РФ [3, с. 360]. Данный вывод подкрепляется и другими исследователями этого вопроса [2, с. 54].
В качестве заключения отметим, что соотношение ст. 280 и 282 УК РФ при призывах к противоправным действиям в отношении какой-либо социальной группы или национальности можно оценить как соотношение содержания и формы. Также важно подчеркнуть, что у лица, желающего возбудить у неопределенного круга лиц ненависть либо вражду к определенной социальной группе, фактически возникает специальная цель, которая заключается в формировании у виновных лиц экстремистского мотива. Сформированный в результате таких действий мотив может становиться побуждением для дальнейшей экстремистской деятельности лица.
Список литературы Особенности квалификации преступлений экстремистской направленности
- Бикеев, И.И. Экстремизм: междисциплинарное правовое исследование / И.И. Бикеев, А.Г. Никитин. – Казань: Изд-во «Познание», 2011. – 320 с.
- Бодров, Н.Ф. Материалы экстремистского характера, распространяемые в сети Интернет: проблемы судебно-экспертного исследования и вопросы квалификации преступлений / Н.Ф. Бодров, А.А. Бимбинов, В.Н. Воронин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 160 с.
- Борисов, С.В. Преступления экстремисткой направленности: проблемы законодательства и правоприменения: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / С.В. Борисов. – М., 2012. – 484 с.
- Борисов, С.В. Проблемы определения содержания и соотношения мотивов при квалификации преступлений экстремистской направленности / С.В. Борисов // Уголовное право. – 2013. – N 6. – С. 4-10.
- Бурьянов, А.С. О необходимости отмены ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и иного «антиэкстремистского» законодательства. – URL: http://golosislama.ru/news.php?id=8257 (дата обращения: 19.10.2021).
- Васильева, Я.Ю. Некоторые вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности / Я.Ю. Васильева // Сибирский юридический вестник. – 2014. – N 4. – С. 96-102.
- Ведерников А.В. Социальные волны и стабильность законодательства / А.В. Ведерников // Baikal Research Journal. – 2021. – Т. 12, N 3. – С. 27.
- Векленко, С.В. Уголовно-правовые средства противодействия экстремизму / С.В. Векленко // Проблемы противодействия экстремизму: материалы международной научно-практической конференции. – Белгород, 2009. – 356 с.
- Ишигеев, В.С. Нравственность в оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью / В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2021. – N 2. – С. 111-118.
- Кашепов, В.П. Квалификация преступлений экстремистской направленности / В.П. Кашепов // Уголовное право. – 2007. – N 3. – С. 30-34.
- Кибальник, А.Г. Борьба с экстремизмом и противоречивость уголовной политики / А.Г. Кибальник // Уголовное право. – 2008. – N 2. – С. 127-132.
- Коршунова, О.Н. Преступления экстремистского характера / О.Н. Коршунова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 323 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2010 // СПС КонсультантПлюс.
- Кулешов, Р.В. Межэтнические отношения: организационные и криминалистические аспекты современной уголовной политики / Р.В. Кулешов, Е.И. Фойгель // Всероссийский криминологический журнал. – 2022. – Т. 16, N 1. – С. 111-121.
- Кунашев, А.А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России / А.А. Кунашев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
- Леньшин, Д.И. Преступления экстремистской направленности по уголовному праву Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.И. Леньшин. – М., 2011. – 174 с.
- Мишланов, В.А. Современный церковно-религиозный дискурс в аспекте проблем судебной лингвистики / В.А. Мишланов, В.А. Салимовский // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – 2015. – N 2(30). – С. 84-96.
- Никитин, Л.Г. Законодательство о противодействии экстремистской деятельности: изменения продолжаются / Л.Г. Никитин // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы V Международной научно-практической конференции. – М.: МГЮА, 2008. – 524 с.
- Стус, Н.В. Проблемы квалификации уголовных дел о террористических и экстремистских преступлениях / Н.В. Стус // Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы всероссийской научно-практической конференции. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 350 с.
- Тепляшин, П.В. Некоторые вопросы совершенствования уголовной ответственности за экстремизм / П.В. Тепляшин // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью: сборник научных трудов / под ред. А.Л. Репецкой. – Иркутск: Изд-во БГУ-ЭП, 2005. – Вып. 2. – С.161-172.
- Тепляшин, П.В. Криминологические аспекты идеологии молодежного терроризма в информационно-телекоммуникационных сетях / П.В. Тепляшин // Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: история, современное состояние, перспективы: в 2 ч. / под общ. ред. С.А. Куценко: сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск: Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2017. – Ч. 1. – С. 208-212.
- Фридинский, С.Н. Противодействие экстремистской деятельности (экстремизму) в России (социально-правовое и криминологическое исследование): дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / С.Н. Фридинский. – М., 2011. – 366 с.
- Хлебушкин, А.Г. Установление признаков социальной группы при квалификации преступлений экстремистской направленности: теория и судебная практика / А.Г. Хлебушкин // Уголовное право. – 2013. – N 6. – С. 74-81.
- Экстремизм: инициатива, система противодействия и прокурорский надзор: методическое пособие / под ред. проф. А.И. Долговой. – М.: Российская криминологическая угроза, 2009. – 171 с.