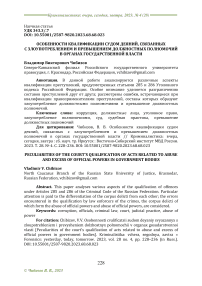Особенности квалификации судом деяний, связанных с злоупотреблением и превышением должностных полномочий в органах государственной власти
Автор: Чибизов В.В.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (28), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной работе анализируются различные аспекты квалификации преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Особое внимание уделяется разграничению составов преступлений друг от друга; рассмотрены ошибки, встречающиеся при квалификации правоприменителями преступлений, составы которых образуют злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.
Коррупция, должностные лица, уголовное право, злоупотребление полномочиями, суд, судебная практика, превышение должностных полномочий
Короткий адрес: https://sciup.org/143180908
IDR: 143180908 | УДК: 343.3/.7 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.68.68.023
Текст научной статьи Особенности квалификации судом деяний, связанных с злоупотреблением и превышением должностных полномочий в органах государственной власти
Одной из проблем современного правоприменения в Российской Федерации является выявление преступлений, совершенных против государственной власти и законного назначения наказания лицам, их совершившим. Большая часть таких преступлений относится к преступлениям коррупционной направленности. Они выделяются своей латентностью, заинтересованностью получения благ лицами, совершающими данные преступные деяния.
Зачастую некоторые составы преступлений коррупционной направленности являются сателлитами по отношению друг к другу, например, ст. 290 УК РФ1 и ст. 285– 286 УК РФ. При этом, как отмечала В. Г. Трухина, «именно квалификация преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), вызывают наибольшие трудности при расследовании уголовных дел органами предварительного следствия и при их рассмотрении судами общей юрисдикции Российской Федерации» [1, с. 448].
Актуальность данной научной работы также подтверждается и статистическими данными осуждения лиц за совершение преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ. Так, за 2020 г. по ст. 285 УК РФ осуждено 325 человек, по ст. 286 УК РФ – 823 человек; за 2021 г. по ст. 285 УК РФ осуждено 445 человек, по ст. 286 УК РФ – 999 человек; и за 2022 г. по ст. 285 УК РФ осуждено 533 чело- века, по ст. 286 УК РФ – 992 человека2. Из вышеприведенных статистических данных следует, что с каждым годом число совершаемых гражданами преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ, увеличивается, при этом, учитывая схожесть правовых конструкций данных статей Уголовного кодекса Российской Федерации, правоприменители испытывают определенные сложности в разграничении указанных составов преступлений.
Основная часть
Правоприменителям необходимо правильно классифицировать действия лиц, совершивших должностные преступления, в том числе для того, чтобы определять ответственность для специальных субъектов данных преступлений при конкуренции норм и схожести составов указанных преступлений с иными преступлениями. Сами по себе превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями являются общими составами, в связи с чем могут быть совершены гражданами, обладающими всеми признаками должностного лица, и практически в любом органе государственной власти.
Как показывает судебноследственная практика, при расследовании органами предварительного следствия и рассмотрении судами общей юрисдикции уголовных дел по преступлениям, предусмотренными статьями 285 и 286 УК РФ, возникают трудности при квалификации данных составов преступлений. Как правило, отграничение преступных деяний, предусмотренные вышеназванными статьями, осуществляется по субъективной и объективной сторонам, поскольку превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями имеют общий объект, без учета дополнительного, и аналогичный специальный субъект.
Помимо этого при классификации данных преступлений внимание необходимо уделять выяснению обстоятельств, в результате которых был причинен вред преступными деяниями. В. Н. Борков по данному поводу отмечал: «Различия между статьями 285 и 286 УК РФ кроются в особенностях «эксплуатации» должностным лицом своего особо статуса» [2, c. 37].
Обращаясь к различиям, связанными с объективной стороной преступлений, предусмотренными статьями 285 и 286 УК РФ, необходимо выделить следующие оснований для разграничения:
– использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы;
– совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий.
Определения вышеназванных понятий содержатся в пунктах 15 и 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полно-мочий"3. Так, в соответствии с п. 15 названного Постановления, под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ст. 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких деяний, которые, хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями.
В свою очередь, п. 19 этого же Постановления определяет, что, в отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы, ответственность за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий.
Таким образом, при разграничении квалификации деяния по статьям 285 и 286 УК РФ следует обращать внимание на то, что объективная сторона превышения должностных полномочий ограничена более узкими рамками (за счет исключения бездействия лица), но при этом субъективная сторона данного преступного деяния гораздо шире злоупотребления должностными полномочиями, поскольку ст. 286 УК РФ подразумевает любой мотив, исключая действия, формально входящие в компетенцию, но совершающиеся при определенных условиях.
Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что при разрешении уголовных дел по преступлениям, предусмотренными статьями 285 и 286 УК РФ, судами в целом правильно применяются положения уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» и от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»4.
Вместе с тем нередко у судов возникают проблемные вопросы, связанные с квалификацией преступных действий виновных по статьям 285 и 286 УК РФ.
Например, согласно приговору гарнизонного военного суда, военнослужащий Л. в течение семи лет являлся помощником начальника одной из служб воинской части. В соответствии со своими должностными обязанностями, Л. выполнял организационно-распорядительные функции в Вооруженных Силах Российской Федерации, то есть являлся должностным лицом. Кроме того, как следует из приказов командира воинской части, Л. был наделен и специальными полномочиями, связанными с подготовкой проектов приказов одной из служб воинской части.
В определенный период Л. из иной личной заинтересованности, обусловленной карьеристскими стремлениями, желанием завысить показатели по подготовке и результативности работы службы, с целью сокрытия реального положения дел в воинской части, а также поддержания товарищеских и дружеских отношений с военнослужащими, которые обратились к нему с просьбами о включении их в документы как военнослужащих, выполнивших установленные нормы, используя свои служебные полномочия в части ведения отчетной документации по службе и подготовке в этой связи проектов приказов о льготах военнослужащим, выполнившим установленные нормы, вносил указанных военнослужащих в отчетные документы как лиц, выполнивших установленные нормы, что действительности не соответствовало, а также представлял проекты соответствующих приказов на подпись полномочным должностным лицам.
Используя представленные Л. данные, сотрудниками отделения кадров воинской части были изготовлены приказы об установлении военнослужащим этой же воинской части надбавок за особые условия военной службы в определенном размере от оклада по занимаемой воинской должности как проходящим военную службу на воинских должностях, исполнение должностных обязанностей по которым связано с выполнением определенных действий, которые в последующем были подписаны командиром воинской части. На основании этих приказов военнослужащим, не имевшим права на получение указанной денежной надбавки, была произведена незаконная выплата денежных средств.
Указанными действиями Л. причинил существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, выразившийся в посягательстве на правильную, отвечающую интересам укрепления Вооруженных Сил Российской Федерации деятельность органов военного управления, на установленный порядок осуществления воинскими начальниками и должностными лицами служебных функций, подрыве авторитета власти, воинской дисциплины, существенном нарушении порядка издания приказов, финансовом нарушении в связи с производством военнослужащим незаконных денежных выплат, что повлекло тяжкие последствия, связанные с причинением материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации.
Органами предварительного следствия Л. обвинялся в совершении им как должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства, с причинением тяжких последствий, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Вместе с тем, государственный обвинитель в ходе судебного заседания заявил, что поскольку Л. совершены действия, связанные с осуществлением им своих прав и должностных обязанностей, однако они объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному органу, так и целям и задачам, для достижения которых Л. был наделен соответствующими должностными полномочиями, содеянное им подлежит переквалификации на ч. 3 ст. 285 УК РФ, с чем суд согласился при квалификации в приговоре преступного деяния, совершенного Л.
Таким образом, суд первой инстанции переквалифицировал преступное деяние Л., исходя из того, что хоть осужденный своим преступлением и причинил тяжкие последствия, однако его мотив («из личной заинтересованности») был первостепенным и основополагающим в совершении данного преступления5.
Для того чтобы преступное деяние, совершенное должностным лицом, возможно было квалифицировать по ст. 285 УК РФ или 286 УК РФ, необходимо наступление хотя бы одного из обязательных последствий совершения данного преступления, а именно: существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» даны разъяснения, что законодателем подразумевается под нарушением прав и законных интересов, поскольку нередко в практике встречается ошибочное вменение данных квалифицирующих признаков.
Согласно постановлению гарнизонного военного суда, военнослужащий Л. органами предварительного следствия обвинялся в том, что в определенный период, проходя службу в определенной воинской должности, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в целях необоснованного обогащения, обусловленного желанием частично обратить незаконно полученные денежные средства в свое пользование, а частично направлять на нужды Училища, отдал подчиненным Г. и М. указание собрать согласно заранее составленному списку у профессорско-преподавательского состава и других лиц гражданского персонала полученные последними премиальные выплаты по итогам года, а затем передать ему собранные денежные средства.
После издания приказа о премировании гражданского персонала по итогам года, начисления и получения профессорско-преподавательским составом и гражданским персоналом премиальных выплат Г. и М., исполняя отданное Л. указание, осуществили у двадцати трех потерпевших сбор денежных средств, которые в последующем были переданы Л., а последний распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, органы предварительного следствия вменяли в вину Л. нарушение требований ч. 3
ст. 37 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»6, статей 26 и 27 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-еннослужащих»7, статей 24, 34–36, 39, 41, 44, 75–84 и 93–95 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, статей 5–6, 9, 11, 25, 33, 60 и 66 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 14958, причинение двадцати трем лицам профессорско-преподавательского состава и гражданского персонала материального ущерба, что, с учетом их имущественного и семейного положения, социального статуса, повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов, а исходя из общей суммы причиненного ущерба и количества потерпевших – тяжкие последствия.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Л. существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в нарушении установленного в Министерстве обороны Российской Федерации порядка материального стимулирования лиц гражданского персонала, что повлекло подрыв авторитета командования как среди указанных лиц и членов их семей, так и среди военнослужащих и противоречит задачам и требованиям, предъявляемым к военным учебным заведениям, для выполнения которых Л. как начальник выполнял организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции.
Таким образом, Л. обвинялся органами предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Однако государственный обвинитель указал в судебном заседании, что квалификация преступного деяния, вмененного подсудимому Л. органами предварительного следствия, не нашла своего подтверждения в ходе допроса потерпевших и свидетелей, а также после исследования в судебном заседании всей совокупности собранных по делу доказательств. При этом государственный обвинитель указал, что такая квалификация является избыточной. Собранные по указанию подсудимого Л. денежные средства были израсходованы на нужды Училища, что подтверждается исследованными в судебном заседании кассовыми чеками на приобретение строительных материалов и материальных средств, поставленных на учет, а также показаниями свидетелей. Учитывая изложенное, государственный обвинитель предложил действия Л. переквалифицировать с части 3 на часть 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан), исключив из общего объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак ч. 3 ст. 285 УК РФ (наступление в результате действий подсудимого «тяжких последствий»), а также исключив из общего объема предъявленного обвинения квалифицирующие признаки причинение существенного вреда охраняемых законом интересов общества и государства и совершение подсудимым преступления из корыстной заинтересованности, с чем суд согласился9.
На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что гарнизонный военный суд переквалифицировал преступные деяния Л., исходя из того, что подсудимый, проходя службу в воинской должности начальника, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, из иной личной заинтересованности совершил использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, при этом не повлекшее тяжких последствий. Также суд первой инстанции обоснованно исключил из общего объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки причинение существенного вреда охраняемых законом интересов общества и государства и совершение подсудимым преступления из корыстной заинтересованности ввиду того, что Л. совершил данное преступление из ложно понятых интересов службы.
В связи с тем, что статьи 285 и 286 УК РФ предусматривают общий субъект – должностное лицо, в судебной практике встречаются трудности в определении положения данного должностного лица по отношению к потерпевшим.
Так, в соответствии с приговором гарнизонного военного суда, старший матрос С. признан виновным в том, что он, являясь начальником по должности и воинскому званию для матросов Е. и Г., «превысил предоставленную ему власть» и применил к потерпевшим насилие, чем совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ10.
Однако из положений ст. 36 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495, следует, что «старший матрос» не является начальником по воинскому званию для «матроса» (равно как и «ефрейтор» для «рядового»). Данная неточность при наличии процессуального основания могла повлечь изменение приговора в вышестоящей судебной инстанции.
Помимо вышеназванного проблемного вопроса у судов при рассмотрении уголовных дел данной категории встречаются трудности в разграничении составов преступлений, таких как кража и злоупотребление должностными полномочиями. Необходимо учитывать, что в соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19, если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в фактическом изъятии имущества, то содеянное надлежит квалифицировать как хищение.
Как следует из приговора гарнизонного военного суда, капитан К., действуя из корыстной заинтересованности, в период с января по июнь 20ХХ г. давал незаконные указания подчиненным ему военнослужащим не убывать в служебные командировки на закрепленных за ними автомобилях, а выделенное на эти цели дизельное топливо сливать из топливных баков и реализовывать. Таким способом 14 600 литров дизельного топлива общей стоимостью 356 862,1 руб. было вывезено за пределы воинской части и продано гражданскому лицу, а вырученные от продажи деньги переданы К.
По приговору суда К. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полно-мочиями)11.
При этом, как указывал Х. М. Ахметшин в своих научных трудах, «если командиры (начальники) выступают организаторами или подстрекателями своих подчиненных и совместно с ними участвуют в совершении преступлений (хищение имущества, насильственные действия в отношении других военнослужащих или гражданских лиц и т. п.), то они подлежат ответственности не только за участие в совершении преступлений, но и за превышение должностных полномочий» [3, с. 138].
Поэтому правильной в данном случае представляется квалификация действий К. по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Выводы и заключение
Таким образом, исследование правоприменительной практики судов позволило сделать вывод, что при квалификации преступных деяний не во всех случаях принимается во внимание то, что злоупотребление должностными полномочиями отличается от превышения должностных полномочий, – главным образом, тем, что в случае злоупотребления должностное лицо действует в границах возложенных на него правомочий, а в случае превышения – явно выходит за их пределы. Кроме того, при квалификации действий по данным составам указанных преступных деяний не всегда принимается во внимание обязательный признак субъективной стороны злоупотребления – корыстная либо иная заинтересованность личного характера.
Хочется отметить, что, рассмотрев наиболее часто встречающиеся ошибки в квалификации преступных деяний по статьям 285 и 286 УК РФ, приходим к выводу о том, что необходимо продолжать проводить исследование указанной проблемы, которая встречается в правоприменительной практике, для создания единых принципов применения уголовного закона.
Список литературы Особенности квалификации судом деяний, связанных с злоупотреблением и превышением должностных полномочий в органах государственной власти
- Трухина, В. Г. Проблемы отграничения превышения должностных полномочий от смежных составов преступлений // Экономика и социум: науч. журн. 2020. № 6-2 (73). С. 448-455. EDN: EXAITD
- Борков, В. Н. Квалификация должностных преступлений: монография. М., 2018. 288 с. EDN: ZNUMDV
- Преступления против военной службы: учебник для ВУЗов / Х. М. Ахметшин, Н. А. Петухов, А. А. Тер-Акопов, А. Т. Уколов; под ред. Н. А. Петухова. М.: Изд-во "Норма", 2002. 187 с.