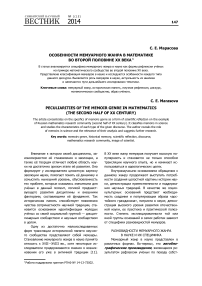Особенности мемуарного жанра в математике во второй половине XX века
Автор: Марасова Светлана Евгеньевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется специфика мемуарного жанра в науке как формы рефлексии учёных на примере математического сообщества во второй половине XX века. Представлена классификация мемуаров в науке и исследуются особенности каждого типа данного дискурса. Выявляется роль мемуаров в науке, актуальность их анализа и намечаются пути дальнейшего исследования тематики.
Мемуарный жанр, историческая память, научная рефлексия, дискурс, математическое сообщество, образ учёного
Короткий адрес: https://sciup.org/14113875
IDR: 14113875
Текст научной статьи Особенности мемуарного жанра в математике во второй половине XX века
Внимание к истории своей дисциплины, закономерностям её становления и эволюции, а также её творцам отличает любую область науки на достаточно зрелом этапе её развития. Оно формирует у исследователя целостную картину эволюции науки, помогает понять её динамику и осмыслить нынешний уровень, обусловленность тех проблем, которые оказались значимыми для учёных в данный момент, логикой предшествующего развития дисциплины и внешними факторами, составившими её фундамент. Так историческая память способствует появлению чувства сопричастности научной традиции, становится основанием идентификации молодых учёных со своей социальной группой — дисциплинарным сообществом и научным сообществом в целом.
Одну из достаточно малоисследованных форм трансляции исторической памяти научного сообщества представляют собой мемуары. Становление мемуарного жанра в науке принято относить к XVII—XVIII вв., хотя некоторые исследователи придерживаются мнения о возникновении его уже в античной традиции [11].
В XX веке жанр мемуаров получает высокую популярность и становится не только способом трансляции научного опыта, но и начинает использоваться в идеологических целях.
Внутринаучными основаниями обращения к данному жанру продолжают выступать потребности создания целостной картины истории науки, демонстрации преемственности и поддержания научных традиций. В качестве же социокультурных оснований предстают необходимость создания и популяризации образа «достойного гражданина», патриота в науке, демонстрация высокого уровня развития отечественной науки, ее престижа и практической полезности. Степень эксплицированности той или иной группы оснований в самих работах зависит от специфики разновидностей мемуаров.
РАЗНОВИДНОСТИ МЕМУАРНОГО ЖАНРА
В НАУКЕ И ИХ СПЕЦИФИКА
Мемуарный жанр в науке представлен в различных формах. Во-первых, это автобиографические произведения, являющиеся результатом рефлексии учёных по поводу собст- венного пути в науке: дневники, воспоминания (которые можно назвать мемуарами в узком смысле), записки (записные книжки), собственно автобиографии, письма.
Эти работы наиболее полноценно раскрывают личность автора, становятся существенным материалом для истории науки, наполняя ее конструкции личностным содержанием. Ценность и актуальность анализа автобиографических работ обусловливается и тем, что они составляют эмпирическую базу для развития психологии научного творчества, иллюстрируя условия становления человека как учёного, необходимые качества личности, возможные типы деятелей науки, мотивы и стимулы научной деятельности, ее интенсивность, феномены научных открытий и т. д.
Вторую разновидность мемуаров представляют воспоминания современников и биографические работы последователей в различных формах: биографии, юбилейные статьи, статьи памяти, некрологи, речи, очерки, энциклопедические статьи. В науке они составляют большую часть работ мемуарного жанра.
В качестве отдельной формы мемуара в науке можно выделить (авто)интервью как исследование, синтезирующее в себе содержательные и формальные характеристики первых двух типов, которое приобретает все большую популярность в XXI веке, но принесло существенные для истории науки и культуры результаты и в XX веке [5, 13].
Разновидности мемуаров внутри данных групп различаются между собой в первую очередь принципами освещения жизни и деятельности героя: полнотой, параметрами отбора и способом подачи материала, подходами к освещению внутреннего мира личности и внешних обстоятельств ее биографии, авторской оценкой итогов профессиональной деятельности объекта внимания, а также степенью субъективности.
В математике вторая половина XX века (точнее, период 1930—80 гг.) оказывается особенно плодотворной в отношении фактически всех форм мемуаров. «Официальные» биографические тексты — биографии, юбилейные статьи, статьи памяти, некрологи, энциклопедические статьи — мы в избытке находим на страницах «Успехов математических наук», «Историко-математических исследований», «Вестника Московского университета», журнала «За науку в Сибири», «Сибирского математического журнала» и др.
Можно выделить ряд чаще всего упоминаемых учёных, жизни и деятельности которых были посвящены работы данных форм мемуарного жанра: П. С. Александров, И. А. Гельфанд, Л. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров, Л. А. Люстерник, А. И. Мальцев, И. Г. Петровский, Л. С. Понтрягин, С. Л. Соболев, Ю. М. Смирнов.
Множество воспоминаний и биографических очерков посвящено А. Н. Колмогорову его многочисленными близкими учениками, коллегами и друзьями [7—10, 15—16]. Некоторые из этих работ издавались неоднократно, будучи дополненными новыми воспоминаниями и фактами, с неподдельным интересом тщательно собираемыми инициаторами сборников. Среди других героев воспоминаний современников — А. И. Мальцев, Л. С. Понтрягин, В. Б. Лидский, В. И. Смирнов, И. М. Гельфанд и др.
Значительную ценность для анализа автобиографического жанра в математике представляет серия воспоминаний А. Н. Колмогорова, его дневники и переписка с П. С. Александровым [9, 10], которые, однако, в большей степени относятся к 30—40 гг. XX века. Крупным автобиографическим произведением является «Жизнеописание Л. С. Понтрягина». Примером собственно автобиографии служат работы П. С. Александрова «Страницы автобиографии», «Страницы автобиографии. Часть вторая» [1, 2].
Так называемые «официальные» биографии (собственно биографии, юбилейные статьи, статьи памяти, некрологи, речи, энциклопедические статьи) имеют целью изложение фактов научной биографии учёного. Чаще всего здесь логика организации дискурса диктуется хронологической последовательностью событий жизни героя и направлена на полное освещение жизненного пути учёного.
Анализ достаточно широкого спектра работ отечественных математиков второй половины XX века позволяет констатировать, что большинство из этих форм претендуют на подчеркнуто-объективный характер освещения личности и деятельности учёного и строятся по следующей схеме:
-
1. Собственно биографические данные и факторы, повлиявшие на становление личности будущего учёного (годы учебы, характеристика атмосферы в научном коллективе как фундамент зарождения интереса к науке, определяющее влияние преподавателей / старших товарищей и т. п., формирование научных интересов).
-
2. Последующая научная карьера и достижения (приоритетные направления исследований, вклад в развитие дисциплинарной области, создание научной школы / направления) — центральное звено мемуарного исследования.
-
3. Научно-популяризаторская и организационная деятельность (участие в международных конгрессах, семинарах, представление научных результатов за рубежом, создание кафедр, институтов, лабораторий).
-
4. Педагогическая деятельность (формирование научных школ, организация семинаров, участие в образовательных реформах, написание учебных пособий для школ и вузов).
-
5. Характерные черты научного творчества, стиль работы как определяющий фактор успешности в науке: нестандартные подходы к обнаружению проблемных ситуаций и методы решения проблем; многопрофильность — умение видеть связь разных областей науки, практическое применение теорий (акцент на последнем особенно характерен для биографий советского периода: статьи о Колмогорове, Лаврентьеве, Люстернике, Понтрягине, А. Н. Тихонове и др.).
-
6. Общественно-политическая деятельность (цель — создание образа учёного-патриота, героя своей страны; в этом отношении показательны юбилейные статьи, посвященные И. Г. Петровскому [3]).
-
7. Личностные и профессиональные качества: харизматичность, увлеченность, простота в общении, доступность изложения материала, видение и поддержка таланта и т. п.
-
8. Обобщенная оценка вклада в развитие дисциплинарной области или науки в целом и ее официальное подтверждение: награды, премии, членство в академиях наук и прочих организациях.
При этом, несмотря на претензию дать объективное описание жизни и деятельности героя биографии, как правило, биографические работы данного вида предполагают создание максимально позитивного образа учёного, в них преобладает тенденция идеализации героя, подчеркивания положительных моральных качеств, которые, в сочетании с профессиональными заслугами учёного, составляют портрет действительно выдающегося человека.
Воспоминания современников, речи и очерки, как правило, концентрируются на отдельных аспектах жизни и деятельности учёного: личностной характеристике, научной, организационной, педагогической деятельности. Это может быть обусловлено следующими причинами. Во-первых, «осторожностью» автора, фокусирующегося на тех моментах биографии, которые наиболее близки ему в контексте собственной профессиональной деятельности. Во-вторых, степенью личного знакомства автора и героя.
В-третьих, желанием автора биографии создать уникальный портрет учёного, подчеркивая именно те аспекты его жизни и деятельности, которые не были раскрыты другими исследователями, или с помощью указания специфических характеристик героя выразить свое отношение к нему, показать значимость данного человека в жизни биографа.
Будучи не ограниченными рамками официального изложения, воспоминания изобилуют подробностями и тонкими деталями (включая иногда элементы художественного стиля, что определяет их высокий уровень личностного наполнения) и представляют читателям не схематизированный очерк, а целостный разносторонний портрет героя мемуаров не только как выдающегося учёного, организатора науки и т. п., но и как живого реального человека во всей неповторимости его индивидуальных особенностей и жизненных отношений как учителя, советчика, друга.
Наиболее показательны в этом отношении воспоминания об А. Н. Колмогорове его учеников [7]. В этих работах нет претензии на полноценное и последовательное освещение жизненного пути Колмогорова или подробное описание его профессиональных заслуг и научных результатов. Авторы скорее пытаются передать читателю тот образ учителя, который остался в их памяти, рассказать о самых значимых событиях и эпизодах, поделиться тем чувством, которое возникало при общении с ним.
По-видимому, Колмогоров играл значительную роль в жизни своих учеников, и это относилось не только к профессиональному пути. Конечно, общение с Колмогоровым началось для них со времен студенчества или учёбы в аспирантуре, поэтому в первую очередь те события, которые описываются авторами, связаны с признательностью Колмогорову за тот вклад, который он внес в их становление как учёных. Это рассказы о курсах лекций и семинарах, на которых обсуждались актуальные и интересные научные проблемы, что оказало доминирующее влияние на формирование научных интересов авторов, и проявившиеся в этом контексте личные и профессиональные качества Колмогорова, привлекавшие к нему: харизма как учёного, высокий уровень профессионализма, разносторонность, эрудиция, легкость в общении, доброжелательность и особого рода проницательность: «Держался он просто и естественно, но всегда чувствовался исключительно высокий духовный потенциал, которым он обладал» [7, с. 122]. И этот духовный потенциал привле- кал к Колмогорову учеников и вне научных дел. Особенно ярки в этом отношении воспоминания Б. Н. Гнеденко, ставшего для Колмогорова не только учеником, но и другом: «Общение с нашим общим учителем оказывало ни с чем не сравнимое воздействие на нашу психику, нашу нравственность, наши научные идеалы. Такая цельная и сильная личность, каким был Андрей Николаевич, как бы излучала влияние на каждого из нас. И это влияние мы ценили» [7, с. 131].
Благодаря воспоминаниям учеников обнаруживаются разнообразные интересы и таланты Колмогорова, упоминания о которых сложно найти в официальных биографических текстах и которые по-новому представляют читателю личность Колмогорова: его любовь к искусству, симфонической музыке, живописи, архитектуре, поэзии, фотографии.
Многочисленные примеры, приводимые учениками в воспоминаниях об учителе, в своем единстве подтверждают центральную мысль, вдохновляющую эти работы и в краткой и ёмкой форме выраженную А. С. Мониным: «Колмогоров был идеалом и образцом порядочности и в крупном, и в мелочах. Без соблюдения правил порядочности быть его учеником, по-моему, было физически невозможно… Он всю жизнь щедро отдавал себя людям, заботился о своих учениках, радовался их успехам и огорчался их неудачам. По-моему, он нас любил. Можно, не боясь громких слов, уверенно сказать, что Колмогоров был… одним из гениев человечества» [7, с. 184].
Таков образ Колмогорова в воспоминаниях учеников. Он поражает своей искренностью, детальностью, масштабностью, всесторонностью, но в то же время некоторой идеализацией.
Между тем для ряда данных работ, как и для работ первой группы, характерна тенденция объективирования исследовательской позиции и учёта разных, в том числе неоднозначных аспектов личности и деятельности героя.
Одним из наглядных примеров этой черты мемуарного жанра в математике второй половины XX века является отражение в воспоминаниях реформы школьного образования 1960— 1970-х гг., руководящую роль в модернизации которого, по рекомендации Отделения математики АН, играл А. Н. Колмогоров, под руководством которого были созданы новые программы и учебники для школы. Результаты этой работы вызвали неоднозначное толкование со стороны математического сообщества.
Понтрягин Л. С. в «Жизнеописании» оценивает новую программу как внедрение в школьную математику «теоретико-множественной идеологии, чуждой нормально мыслящему школьнику», а «ущерб», причиненный ею, сравнивает с «общегосударственной диверсией» [12]. В других мемуарах встречается не столь однозначное толкование данной работы Колмогорова. Гнеденко пишет: «Он стремился обновить образование, ввести подростков в круг современных понятий математики… Конечно, учебники требовали серьезной доработки… Такой возможности Колмогорову дано не было. На него свалилась резкая и далеко не всегда справедливая критика. Учебники Колмогорова должны быть отредактированы и изданы вновь, чтобы их могли использовать в своей работе ищущие преподаватели» [7, с. 149—150].
Невозможность более точного разграничения характеристик разновидностей воспоминаний современников связана с тем, что специфика дискурса воспоминания в науке во многом определяется не жанром, а личностью автора. Можно выделить три группы авторов мемуаров об учёных: 1) коллеги по дисциплине / направлению; 2) личные знакомые, друзья — специалисты смежных отраслей науки; 3) ученики и последователи.
Отличительной чертой исследований первой группы является глубина рассмотрения профессиональной деятельности героя. Анализ ряда работ данного типа также позволяет сделать вывод о наличии некоторой конкуренции между научными деятелями, так как именно в данной группе биографий мы находим отражение отрицательных черт характера героя и критику процесса его деятельности.
Понтрягин Л. С. основательно излагает результаты работы своего учителя П. С. Александрова и А. Н. Колмогорова и по тем направлениям, которые являются истоками его собственных профессиональных интересов и конкретных задач, и в тех областях, которые ему идейно чужды. При этом в отношении последних Понтрягин нередко высказывается в отрицательном ключе, отмечая их преувеличенную авторами важность и универсальность, как это имеет место, например, с оценкой им теории множеств [12].
Наряду с указанием положительных черт, которые были присущи его учителям — П. С. Александрову и В. А. Ефремовичу, он пишет о тех недостатках, которые заставили его спустя время разочароваться в них и перейти «от большой дружбы к полному равнодушию».
Рассказывая о сложностях работы с Колмогоровым, среди причин этого Понтрягин называет его «непедантичность», говоря о пренебрежении им своих обязанностей в «Математиче- ском сборнике», и «неконтактность», в ситуациях, когда он мог в ходе разговора отвернуться и уйти или вовсе не отреагировать на обращение к нему. В работах же учеников Колмогорова на эти черты учителя указывается как на особенности, имеющие истинную причину в его преданности науке и беспрецедентной увлеченности новыми задачами, которые при правильном понимании недостатками не являются.
Публикации личных знакомых и друзей учёного характеризуются осторожностью авторской оценки его достижений, стремлением выделить ту сторону его труда, которая была наиболее близка их профессиональным интересам, или концентрируются на описании жизни героя, личностных качеств и взаимоотношений с ним. Примерами такого рода работ можно назвать мемуары, посвященные А. Н. Колмогорову, авторы которых — П. С. Александров (специалист в области топологии, близкий друг А. Н. Колмогорова), Г. И. Катаев (родственник Колмогорова, физик), Р. С. Черкасов (соратник Колмогорова в реформе школьного образования).
Работы учеников и последователей учёного отличаются созданием максимально позитивного образа учителя, высокой оценкой его профессиональной деятельности, личных качеств, подчеркиванием иных заслуг и т. п. Для данного типа работ также характерно особое внимание авторов к тем областям научной работы учёного, которые оказались в центре их собственных профессиональных интересов.
Об особенностях воспоминаний учеников А. Н. Колмогорова было сказано выше. Здесь проанализируем освещение ими собственно научно-исследовательской работы учителя. Неравномерность в освещении профессиональных заслуг Колмогорова объясняется «трудностью, неизбежно возникающей, когда приходится давать научную характеристику творчества учёного столь универсально разностороннего, каким является Колмогоров, занимающий по широте осуществлённого им творческого охвата почти всей современной математики единственное место в науке» [4, с. 193]. И здесь критерием выбора становятся субъективные вкусы авторов. А. Н. Ширяев подробно останавливается на вкладе Колмогорова в теорию вероятностей, М. Арато — в математическую статистику, В. И. Арнольд — в топологию, теорию динамических систем, А. М. Обухов и А. С. Монин — в теорию турбулентности, С. М. Никольский — в теорию функций действительного переменного и т. д.
Важным вопросом в рамках анализа специфики мемуарного жанра в науке выступает вопрос о критериях выбора героя биографии. Принимая во внимание, что выбор героя является выражением личного отношения автора, можно выделить ряд объективных факторов релевантности учёного как героя мемуаров:
-
1. Авторитет учёного и высокая оценка его вклада в науку (чаще всего авторы — коллеги по дисциплине).
-
2. Создание учёным крупных научных школ и направлений (авторами, как правило, выступают ученики, и работа создается с целью сохранить память о людях, сыгравших ключевую роль на их профессиональном пути, обосновать значимость направлений своих исследований, сопричастность традиции), важной оказывается характеристика личных качеств учёного, отношение к нему как к авторитету не только в науке, но и в жизни.
-
3. Научно-организационная деятельность.
-
4. Педагогическая деятельность (учёный рассматривается как выдающийся преподаватель и популяризатор науки среди молодежи).
Тот факт, что значительное количество биографических работ математиков XX века посвящено А. Н. Колмогорову, П. С. Александрову, А. И. Мальцеву, С. М. Никольскому, Л. А. Люс-тернику, Л. С. Понтрягину, В. И. Смирнову, правомерно объяснить их причастностью этим характеристикам.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМУАРОВ
Ценность любого научного продукта, в том числе мемуара, определяется его объективностью. Однако специфика данного жанра в том, что он по определению включает в себя элемент ценностного отношения и иные субъективные характеристики. Это ставит проблему аутентичности мемуарного жанра в науке. Поэтому представляется целесообразным рассмотрение проблемы соотношения субъективного и объективного в мемуарах. Сначала проанализируем, каково это соотношение в работах, представляющих собой воспоминания современников об учёном.
Во-первых, наличие элемента субъективного обусловливается самой спецификой объекта исследования, в роли которого выступает не некий научный продукт, а личность учёного. Субъективное отношение к объекту работы проявляется уже в выборе этого объекта. Выбор героя мемуаров обусловлен отношениями между автором и героем: математики писали мемуары о людях, близких им либо идейно, духовно (родственники, друзья, близкие знакомые), либо профессионально (коллеги, ученики).
Во-вторых, субъективность позиции автора определяется временной, личной или профессиональной дистанцией. Работы, написанные современниками, отличает «оригинальность» информации в том смысле, что они опираются на личные знания автора о герое, в то время как работы исследователей, лично не знакомых с героем, ссылаются на «вторичные» источники, тем самым производя уже вторичную интерпретацию излагаемых фактов. Например, в некоторых мемуарах о Колмогорове его младших прямых учеников или людей, непосредственно не являвшихся таковыми, но ввиду испытываемого ими влияния Колмогорова относящих себя к его ученикам, вместо личных воспоминаний представлены пересказы «очевидцев» событий либо пересказы воспоминаний самого А. Н. Колмогорова, в результате чего можно наблюдать немало разночтений.
В-третьих, субъективное отношение проявляется в оценке личности ученого и его достижений. Здесь важную роль играет общность / различие профессиональных интересов, исследовательских программ, подходов, ценностных установок и т. п. И в ситуации, когда автор не является представителем той же отрасли / направления в науке, что и герой, и в случае общности их специализации автор так или иначе обнаруживает свою позицию. Это проявляется, например, в анализе научной деятельности А. Н. Колмогорова П. С. Александровым, Л. С. Понтрягиным и учениками: В. И. Арнольдом, Г. И. Баренблаттом, Р. Ф. Матвеевым, С. М. Никольским, А. А. Юшкевичем.
Так, критерии и результат оценки деятельности учёного обусловливаются методологической позицией автора, и биографический текст, как правило, предстает перед читателем сквозь призму авторского подхода, его профессиональных ориентаций и установок.
Особое значение проблема субъективного и объективного приобретает в автобиографических жанрах мемуаров. Наличие субъективного компонента и его правомерность являются атрибутом таких «неформальных» разновидностей автобиографических мемуарных жанров, как дневники, очерки, письма. В этих работах автор стремится осветить важные события научной жизни, рассказать о значимых для него моментах, создать портреты коллег, оказавших влияние на его профессиональную жизнь. При этом факты предстают в мемуаре в интерпретации автора. Чаще всего субъективная компонента выражается в ценностной окраске событий жизни, выделении и подчеркивании значимости тех или иных фактов, оценке своего пути в науке и итогов деятельности, оценке личностей и деятельности коллег и т. д.
Для иллюстрации этого обратимся к «Жизнеописанию Л. С. Понтрягина, математика, составленному им самим…». «Оно глубоко лично — и подчас даже воспринимается как чрезмерно личное», — отмечает в комментарии к работе В. В. Кожинов [6]. Описание фактов и событий профессиональной жизни Л. С. Понтрягина органично вплетается в контекст всего его «жизнеописания». В работе фиксируются мельчайшие детали и нюансы картины взаимоотношений автора со всем своим окружением: начиная с семьи, учителей и близких коллег и заканчивая зарубежными учёными, с которыми он встречался единожды, — призванной продемонстрировать, какое влияние всё это оказывало и на научную карьеру автора. Свой путь в науке Л. С. Понтрягин также пытается описать «без прикрас». Он рассказывает не только о блестяще достигнутых результатах, но и ярко описывает эмоциональное напряжение, сопровождающее работу, и сложности, встречавшиеся на пути к открытиям. Всё это позволяет увидеть не столько образ научной деятельности — типизированную схему, лишенную недостатков, сколько реальный процесс научного творчества математика.
Интерпретативная природа автобиографических жанров в равной степени характеризует и подход к описанию автором собственной личности. В автобиографии учёный формирует и представляет некий образ самого себя, связанный с доминирующей, на его взгляд, социальной ролью. Как правило, этот образ оказывается положительным и лишь незначительно дополняется.
Для Понтрягина, как можно судить по его «Жизнеописанию», это образ «морализатора в науке», пытающегося на протяжении всей своей деятельности отстаивать справедливость и препятствовать «неправильным» действиям коллег и руководства. Эта прямота и субъективное понимание патриотизма в науке (работа по подготовке программ для средней школы, выбор кадров для редколлегии математических журналов только в интересах развития советской науки, борьба с сионизмом) были причиной неоднозначного отношения Л. С. Понтрягина с властями и в особенности с коллегами, что стало основой критических оценок личности и деятельности учёного, затрудняющих понимание его объективной роли в науке.
Следовательно, в обоих случаях построение объективной картины жизни и деятельности учёного, адекватной оценки его личности и вклада в науку требует интертекстуального анализа, т. е. соотношения данных разных в авторском и временном отношении источников и их взаимопроверки.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА ДИСКУРСА ВОСПОМИНАНИЯ
Итак, первой функцией мемуаров в науке является раскрытие индивидуально-личностного компонента научного творчества. С другой стороны, учёный, как любая личность, имеет множество социальных ролей, взаимодействуя с множеством социальных институтов: научным сообществом, культурной, политической средой, общественностью. Он является носителем характеристик своей исторической эпохи, разделяя ее нормы и ценности. Поэтому мемуары выступают также способом выражения социокультурной ситуации соответствующего этапа истории науки.
Сквозь призму самого биографического текста, воспроизводящего мир идей и взглядов ученого, просматривается социально-политический и культурный контекст: взаимоотношения в дисциплинарном сообществе, отношения научного сообщества с властью, с обществом.
Кроме того, мемуары в явной или неявной форме содержат в себе компоненты, характеризующие внутреннюю социальность науки: они позволяют выявить ценностно-нормативный аспект научного творчества и способствуют передаче соответствующих норм и ценностей следующему поколению ученых. Анализируя автобиографию Л. С. Понтрягина, мы видим, что в ней нашли отражение как история науки, так и история страны и мира в целом: взаимоотношения внутри отечественного математического сообщества 30—80 гг. XX века, отношения математических кругов СССР и Запада 50—80 гг. (в том числе проблемы антисемитизма и сионизма); отношения науки и общества и социально-политическая обстановка в СССР и в мире (Первая мировая война, революция, Вторая мировая война: как научному сообществу виделось политическое положение и как оно в действительности сказалось на развитии науки).
Следовательно, ценность мемуаров в науке и необходимость всестороннего анализа их имплицитного и эксплицированного содержания обусловливаются также их способностью выразить внутренний и внешний социально-культурный контекст развития науки, каким он представлен непосредственным очевидцам событий, что определяет значительный интерес для ис- тории науки. Кроме того, сквозь призму социокультурной обусловленности биографии и взглядов героя анализ его жизни и деятельности представляется более адекватным и полноценным, что позволяет оценить его положение и роль в отечественной науке.
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА УЧЕНОГО НА ОСНОВЕ БИОГРАФИЙ
Анализ работ математиков второй половины XX века обнаруживает еще одну закономерность: все они, различаясь в частных аспектах, рисуют определенную модель жизни. Индивидуальные биографии, выражающие уникальные профессиональные пути учёных, обнаруживают некоторые общие сценарии, которые можно назвать «биографическими схемами».
Следовательно, в рамках дальнейшего анализа мемуарного жанра в науке представляется перспективным выяснить, как с помощью сопоставления индивидуальных биографий и выявления данных биографических схем возможно создание целостного образа учёного XX века.
-
1. Александров П. С. Страницы автобиографии // Успехи математических наук. 1979. Т. 34, вып. 6(210). С. 219—249.
-
2. Александров П. С. Страницы автобиографии. Часть вторая // Успехи математических наук. 1980. Т. 35, вып. 3(213). С. 241—278.
-
3. Александров П. С., Арнольд В. И. и др. Иван Георгиевич Петровский (к семидесятилетию со дня рождения) // Успехи математических наук. 1971. Т. XXVI, вып. 2(158). С. 3—24.
-
4. Александров П. С., Хинчин А. Я. Андрей Николаевич Колмогоров (к пятидесятилетию со дня рождения) // Успехи математических наук. 1953. Т. XVIII, вып. 3(55). С. 177—200.
-
5. Беседа А. Н. Колмогорова с А. Н. Марутяном, сценаристом и режиссером документального фильма «Рассказы о Колмогорове». 1983. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/KOLMO GOR/LAST.HTM.
-
6. Кожинов В. В. К публикации «Жизнеописания...» Понтрягина. М. : Прима B, 1998.
-
7. Колмогоров в воспоминаниях учеников / ред.-сост. А. Н. Ширяев. М. : МЦНМО, 2006. 472 с.
-
8. Колмогоров : Юбилейное изд-е : в 3 кн. Кн. 1. Истина — благо. Биобиблиогр. / ред.-сост. А. Н. Ширяев. М. : Физматлит, 2003. 384 с.
-
9. Колмогоров : Юбилейное изд-е : в 3 кн. Кн. 2. Этих строк бегущих тесьма… Избранные места из переписки А. Н. Колмогорова и П. С. Александрова / ред.-сост. А. Н. Ширяев. М. : Физматлит, 2003. 672 с.
-
10. Колмогоров : Юбилейное изд-е : в 3 кн. Кн. 3. Звуков сердца тихое эхо. Из дневников / ред.-сост. А. Н. Ширяев. М. : Физматлит, 2003. 232 с.
-
11. Медведева Е. А. Жанр научной биографии в русском литературоведении кон. XIX — нач. XXI вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Казань,
2011. 182 с.
-
12. Понтрягин Л. С. Жизнеописание Льва Семёновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908 г., Москва. М. : Прима B, 1998. 340 с.
-
13. Ученик об учителе: интервью с академиком А. Н. Колмогоровым в связи со столетием со дня рождения академика Н. Н. Лузина // Успехи математических наук. 1985. Т. 40, вып. 3(243). С. 7—8.
-
14. Шафаревич И. Р. Так сделайте невозможное! (К 80-летию Л. С. Понтрягина) // Советская Россия. 1989. 16 апр.
-
15. Явление чрезвычайное. Книга о Колмогорове / сост. Н. Х. Розов ; ред. В. М. Тихомиров. М. : МИ-РОС-ФАЗИС, 1999.
-
16. Kolmogorov in perspective [translated from the Russian by Harold H. McFaden]. (History of Mathematics. Volume 20). American Mathematical Society & London Mathematical Society, 2000.
Список литературы Особенности мемуарного жанра в математике во второй половине XX века
- Александров П. С. Страницы автобиографии//Успехи математических наук. 1979. Т. 34, вып. 6(210). С. 219-249.
- Александров П. С. Страницы автобиографии. Часть вторая//Успехи математических наук. 1980. Т. 35, вып. 3(213). С. 241-278.
- Александров П. С., Арнольд В. И. и др. Иван Георгиевич Петровский (к семидесятилетию со дня рождения)//Успехи математических наук. 1971. Т. XXVI, вып. 2(158). С. 3-24.
- Александров П. С., Хинчин А. Я. Андрей Николаевич Колмогоров (к пятидесятилетию со дня рождения)//Успехи математических наук. 1953. Т. XVIII, вып. 3(55). С. 177-200.
- Беседа А. Н. Колмогорова с А. Н. Марутяном, сценаристом и режиссером документального фильма «Рассказы о Колмогорове». 1983. URL: http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/KOLMO GOR/LAST.HTM.
- Кожинов В. В. К публикации «Жизнеописания..» Понтрягина. М.: Прима B, 1998.
- Колмогоров в воспоминаниях учеников/ред.-сост. А. Н. Ширяев. М.: МЦНМО, 2006. 472 с.
- Колмогоров: Юбилейное изд-е: в 3 кн. Кн. 1. Истина -благо. Биобиблиогр./ред.-сост. А. Н. Ширяев. М.: Физматлит, 2003. 384 с.
- Колмогоров: Юбилейное изд-е: в 3 кн. Кн. 2. Этих строк бегущих тесьма. Избранные места из переписки А. Н. Колмогорова и П. С. Александрова/ред.-сост. А. Н. Ширяев. М.: Физматлит, 2003. 672 с.
- Колмогоров: Юбилейное изд-е: в 3 кн. Кн. 3. Звуков сердца тихое эхо. Из дневников/ред.-сост. А. Н. Ширяев. М.: Физматлит, 2003. 232 с.
- Медведева Е А. Жанр научной биографии в русском литературоведении кон. XIX -нач. XXI вв.: дис.. канд. филол. наук: 10.01.01. Казань, 2011. 182 с.
- Понтрягин Л. С Жизнеописание Льва Семёновича Понтрягина, математика, составленное им самим. Рождения 1908 г., Москва. М.: Прима B, 1998. 340 с.
- Ученик об учителе: интервью с академиком А. Н. Колмогоровым в связи со столетием со дня рождения академика Н. Н. Лузина//Успехи математических наук. 1985. Т. 40, вып. 3(243). С. 7-8.
- Шафаревич И. Р. Так сделайте невозможное! (К 80-летию Л. С. Понтрягина)//Советская Россия. 1989. 16 апр.
- Явление чрезвычайное. Книга о Колмогорове/сост. Н. X. Розов; ред. В. М. Тихомиров. М.: МИ-РОС-ФАЗИС, 1999.
- Kolmogorov in perspective . (History of Mathematics. Volume 20). American Mathematical Society & London Mathematical Society, 2000.