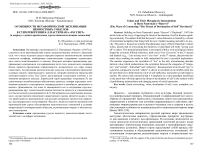Особенности метафорической экспликации ценностных смыслов в стихотворении Б.Л. Пастернака "Рассвет" (к вопросу о путях преодоления угрозы деаксиологизации личности)
Автор: Заботкина Вера Ивановна, Коннова Мария Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
На примере стихотворения Б.Л. Пастернака «Рассвет» (1947) исследуются пути противодействия угрозе деаксиологизации личности. Доказывается, что к числу ведущих средств передачи скрытых аксиологических значений относится метафора, сообщающая семантическому содержанию художественного текста многоплановость и новизну. Ведущим мотивом произведения, раскрывающего центральную для мировидения поэта тему ценностного основания бытия, является преодоление ограниченности человеческого «я» через подвиг самоотдачи. Актуализация аксиологических смыслов стихотворения происходит в рамках единого «вертикального» контекста, который намечается евангельской аллюзией второго стиха Твой Завет, выступающей «смысловым ключом» к пониманию авторского замысла. Лирический герой переживает откровение Ты как единственную всеобъемлющую абсолютную ценность, которая определяет соотношение внешнего и внутреннего, индивидуального и всеобщего, временного и вечного. Доказывается, что отказ от самоценности «я» и сострадание «другим», размыкающие круг эгоистической самодостаточности личности и утверждающие ее в бытии вечном, рассматриваются Б.Л. Пастернаком как единственная возможность осуществления неизменного нравственного закона. Делается вывод о том, что ориентация на традиционную для русской литературы ценностную парадигму, эксплицируемую в стихотворении «Рассвет», является одной из возможностей противодействия угрозе обесценивания межличностных отношений в условиях возрастающей технократизации общества, релятивизации морали и абсолютизации эгоцентризма.
Преодоление угрозы, ценность, деаксиологизация, поэтический текст, метафора, метонимия
Короткий адрес: https://sciup.org/149127451
IDR: 149127451 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00075
Текст научной статьи Особенности метафорической экспликации ценностных смыслов в стихотворении Б.Л. Пастернака "Рассвет" (к вопросу о путях преодоления угрозы деаксиологизации личности)
Ценность - основание глубинного слоя культуры, базовый личностно-универсальный принцип, объединяющий и направляющий все многообразие ее проявлений. Ценностное отношение, явное или имплицитное, закрепленное в понятиях или стихийно выражающееся в действиях, пронизывает мировоззрение как отдельного человека, так и социума в целом, обусловливая особенности индивидуальной и национальной картин мира [Баева 2004, 254].
Аксиологическим инвариантом русской картины мира традиционно выступает абсолютная ценность, определяющая приоритет внутреннего над внешним и вечного над временным. В последние десятилетия система ценностно-онтологических ориентаций носителей русского языка претерпевает значительные изменения, ведущие к трансформации смысложизненных установок. Явную угрозу представляет собой процесс обезличивания человека и обесценивания межличностных отношений. Абсолютизация эгоцентризма, релятивизация морали и возрастающая тех-
** The work was done with the support of the grant of the Russian Science Foundation (project number 17-78-30029).

нократизация приводят к возникновению нового коллективного субъекта массовой культуры - «глобального человека» цифровой эпохи, произвольно конструирующего собственную идентичность и свободного от авторитета традиции [Малыгина 2019]. Не менее опасен процесс размывания традиционной системы ценностей - «ядерного расщепления» культурных доминант русской картины мира, связанный с вытеснением абсолютной ценности как основания аксиосферы культуры [см. об этом: Заботкина, Коннова 2019].
В условиях происходящей в настоящее время «деформации традиционной ценностной парадигмы» [Анненкова 2011, 268] поиск путей преодоления угрозы деаксиологизации личности приобретает первостепенную значимость [подробнее о концепте «Преодоление» см.: Заботкина, Боярская 2020]. В области филологических исследований этому может способствовать всестороннее изучение ценностных доминант русской национальной картины мира, нашедших свое отражение в литературном творчестве.
Цель настоящей статьи - исследование особенностей метафорической экспликации ценностных смыслов в стихотворении Б.Л. Пастернака «Рассвет». Метафора, сопрягающая несопоставимое и выражающая невыразимое, относится к числу ведущих средств передачи скрытых аксиологических значений, обеспечивая новизну семантического и остроту прагматического содержания художественного текста. В гиперсемантизированной поэтической речи метафорическая тропеизация служит неиссякаемым источником выразительности, позволяя слову бесконечно расширять круг его потенциально возможных иносказательных значений.
Стихотворение «Рассвет», написанное в 1947 г. и вошедшее в поэтический цикл романа «Доктор Живаго», в жанровом отношении представляет собой «высокое послание» [Тюпа 2014, 465]. Оно затрагивает центральную для мировидения Б.Л. Пастернака тему аксиологического основания бытия. Слово-символ рассвет, вынесенное в заглавие стихотворения, метафорически актуализирует идею преодоления. Указывая на краткую грань между уходящей ночью и наступающим днем, оно несет память о прошлом - ночной тьме как времени страданий и бед, и мысль о будущем - свете дня, в котором осуществится полнота бытия. Рассмотрим, как метафорический образ преодоления, имплицитно вводимый заглавием, реализуется в языковой ткани стихотворения.
Ценностные координаты стихотворения задаются начальными строфами:
Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха, И долго-долго о Тебе Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет Твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я Твой Завет И как от обморока ожил.
Местоименное обращение первого стиха Ты обнаруживает присутствие непосредственного собеседника - того, кто, вступая в общение с говорящим, некоторым образом «высказывая» себя ему, пробуждает в нем живой отклик [Франк 1990, 353]. Референт подлежащего начального стиха Ты остается благоговейно неназванным. Он метонимически эксплицируется в третьем стихе второй строфы, где производное притяжательное местоимение Твой представляет собой согласованное определение слова Завет: «Всю ночь читал я Твой Завет». Сочетание Твой Завет указывает на христианскую часть Библии, намечая «вертикальный» контекст, в рамках которого раскрываются аксиологические смыслы произведения. Обращение начального стиха прочитывается как направленное к Сыну Божию, Который являет Себя лирическому герою как «безусловно непостижимое абсолютное первоначало, пережитое и открывающееся в опыте как “Ты”» [Франк 1990, 469].
Аксиологический контекст начальных строф высвечивает скрытый смысл заглавия стихотворения. В гимнографических текстах, которые Б.Л. Пастернак хорошо знал и красотой которых восхищался [Пастернак, 1997, 627], синонимы существительного рассвет - лексемы заря и восток («восход солнца») - иносказательно указывают на Сына Божия. Ср.: «Исайе, ликуй, Дева име во чреве и роди Сына Еммануила, Бога же и Человека, Восток имя Ему» (канон воскресный, 5 гл., 9 песнь, ирмос). Можно предположить, что этот символический смысл проецируется на заглавие анализируемого стихотворения, что делает «Рассвет» метафорическим именем Того, Кому адресовано обращение «Ты» первого стиха.
Группа сказуемого первого стиха - «... значил все в моей судьбе» - отсылает ко времени первого откровения «Ты» лирическому герою. Это событие столь поразительно в своей конкретности и полноте, что ему усваивается предельная ценность - «Ты значил все». Определительное местоимение все, именующее полное, всеобъемлющее бытие, отождествляет Адресата с ценностью Абсолютной. В этом утверждении всецелой устремленности к Тому, Кто есть «Сущий смысл, Сущая Значительность» [Лосский 2000, 32], первый стих перекликается с первой евангельской заповедью - о любви к Богу: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк. 12: 30). В прозаической части романа содержательные параллели прослеживаются в словах философа Николая Веденяпина: «Истину ищут только одиночки, и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию,
надо быть верным Христу» [Пастернак 1998, 25].
Последние слова начального стиха - в моей судьбе - подчеркивают неразрывную связь Адресата («Ты») и лирического героя («я»). Сочетание моя судьба, бытийное значение которого насыщено провиденциальными смыслами, указывает на конечное предназначение лирического героя - его неповторимый жребий поэта. Автобиографические параллели прослеживаются в письме Б.Л. Пастернака Ж. де Пруайяр от 2 мая 1959 г, в котором поэт говорит об истоках самобытной индивидуальности своего творчества: «Я был крещен своей няней в младенчестве <...> это ... оставалось всегда душевной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной привычкой. В этом, я думаю, источник моего своеобразия. Сильнее всего в жизни христианский образ мысли владел мною в 1910-1912 годах, когда закладывались основы моего своеобразного взгляда на вещи, мир, жизнь» [Пастернак 1992, 166-167]. 1910-1912 гг., о которых говорит в своем письме Б.Л. Пастернак, - время его становления как поэта-философа. В 1913 г. он окончил философское отделение филологического факультета Московского университета с дипломом кандидата первой степени. Университетский курс включал глубокое изучение философских основ христианства. На итоговом экзамене по древней и средневековой философии Б.Л. Пастернак получил высший балл за ответ на вопрос «Патристическая философия до Никейского собора. Элементы, входящие в состав мировоззрения первобытного христианства. Юстин мученик, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский и Ориген» [Пастернак 1997]. Своеобразным указанием на этот период в жизни Б.Л. Пастернака являются следующие строки романа «Доктор Живаго»: «Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию» [Пастернак 1998, 79].
Второй стих строфы содержательно противопоставлен первому: «Потом пришла война, разруха...». Таксисный ориентир потом обозначает границу между двумя темпоральными планами. Целостное «внутреннее» время души, причастное «абсолютности и вечности Бога» [Франк 1990, 474], вытесняется раздробленностью «внешнего» времени - исторической стихии, маркерами которой становятся существительные война и разруха. Эти событийные имена отсылают к катастрофической реальности, за видимыми проявлениями которой «скрывается разрушение прежней системы ценностей, этой конструктивной основы картины мира» [Воротын-цева, Тюпа 2014, 114].
В следующих, третьем и четвертом стихах, возникает мотив бого-оставленности: «И долго-долго о Тебе / Ни слуху не было, ни духу». Синтаксическая инверсия, изменяя привычную форму фразеологизма, высвечивает неидиоматические смыслы составляющих его лексем. Слово дух актуализирует предельно высокое значение - «благодать» [Даль 1956, 503]. Тройное отрицание (Ни слуху не было, ни духу) подчеркивает не-бытийный характер рожденного войной и разрухой нового времени, кото- рое воспринимается лирическим героем как состояние экзистенциальной пустоты. Содержательные параллели можно проследить в стихотворении «Боже, Ты создал быстрой касатку...». Написанное как ответ на расстрел заложников в сентябре 1918г., оно также имеет форму прямого обращения к Творцу: «...Стал забываться за красным желтый / Твой луговой, вдохновенный рассвет. / Где Ты? На чьи небеса ушел Ты? / Здесь, над русскими, здесь Тебя нет» [Пастернак 1989, 625].
Вторая строфа повествует о знаковом, поворотном событии, которое соотносит план настоящего с исходной точкой повествования - временем первого откровения Ты.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой Завет
И как от обморока ожил.
В первом стихе второй строфы - «И через много-много лет» - семантика неопределенного множества, актуализируемая наречием много-много, подчеркивает тягостную безликость «годов безвременщины» [Пастернак 1998, 538]. Второй стих - «Твой голос вновь меня встревожил» - намечает внезапную перемену в состоянии лирического героя: бесчувственная инертность «мертвого времени» преодолевается неожиданным вмешательством извне. Сочетание Твой голос, метонимически указывающее на Того, кто «не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22: 32), вводит центральный для русской поэзии мотив призвания (ср. пушкинское: «Как труп в пустыне я лежал / И Бога глас ко мне воззвал. ..»). В третьем стихе - «Всю ночь читал я Твой Завет» - хрононим ночь, наряду с прямым темпоральным значением, метафорически выражает смыслы неизвестности, беды, страдания.
В основе четвертого стиха - «И как от обморока ожил» - лежит антитеза смерти и воскресения. Слово обморок (обмирать), обозначающее глубокую, граничащую с безжизненностью, потерю сознания, уподобляет существование без Бога состоянию видимой смерти. Форма совершенного вида ожил, актуализируя категориальную семантику «начала новой ситуации», маркирует смену временных планов. Прошлое - «ночь» - уступает место настоящему - имплицитно возникающему здесь образу рассвета. Причинно-следственная связь однородных сказуемых третьего и четвертого стихов «читал я Твой Завет» - «ожил» имплицирует метафору преодоления, раскрывая значение Евангелия как побеждающей силы, перерождающей и утверждающей жизнь [ср. Флоровский 1991, хй].
Откровение Нового Завета, преображающее лирического героя, размыкает узкий круг его автономной самодостаточности [ср. Тюпа 2014, 464]. Первые мгновения этого иного восприятия жизни запечатлены в третьей строфе, которую пронизывает идея стремительного перехода от прежнего к новому:

Мне к людям хочется, в толпу, В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу И всех поставить на колени.
Ответом на призыв - Твой голос - становится обращение от себя-как-центра к другим. В этом движении от «я» к «они» прослеживается скрытая аллюзия на вторую евангельскую заповедь - о любви к ближнему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12: 31). Оптативные предикаты хочется, готов сопрягают реальность настоящего с будущим, отражая внутреннее стремление души - от одиночества «я» к полноте жизни в «других». Недифференцированная собирательность существительных люди, толпа подчеркивает предельную открытость лирического героя миру. Сочетание утреннее оживл енье, повторяющее основу глагола ожил второй строфы, оттеняет радостное восприятие мира, имплицитно вводя ключевой для стихотворения образ рассвета как начала нового дня и, метафорически, - новой жизни.
В третьем стихе строфы - «Я все готов разнесть в щепу» - антитеза старого и нового усиливается. Отчетливая экспрессивность фразеологизма разнесть в щепу подчеркивает категоричность неприятия лирическим героем системы мнимых ценностей, обобщенно именуемой определительным местоимением все. В этом отказе от прежнего «я» прослеживаются скрытые параллели с евангельскими притчами об откровении веры (ср. Мф. 13: 44). Указанием на то, что лирический герой «готовразнесть в щепу», могут послужить строки письма поэта к О. Фрейденберг от 13 октября 1946 г. Говоря о будущем романе, Б.Л. Пастернак использует в этом письме синонимичный фразеологизм сводить счеты. «Я в нем свожу счеты <...> со всеми оттенками антихристианства» [Переписка 1990, 224].
Второй инфинитив составного глагольного сказуемого - [готов] всех поставить на колени - актуализирует взаимосвязанные мотивы благоговейного поклонения и покаяния. В этом образе, приобретающем особую отчетливость на фоне содержательно противоположной начальной строфы («И долго-долго о Тебе / Ни слуху не было, ни духу»), безнадежная пустота бытия преодолевается верой.
Следующие три строфы (IV-VI) создают образ утреннего города, в котором сочетаются контрастные мотивы холода и тепла, темноты и света:
И я по лестнице бегу, Как будто выхожу впервые На эти улицы в снегу И вымершие мостовые.
Везде встают, огни, уют, Пьют чай, торопятся к трамваям. В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.
В воротах вьюга вяжет сеть Из густо падающих хлопьев, И чтобы во-время поспеть, Все мчатся недоев-недопив.
В первом стихе четвертой строфы - «И я по лестнице бегу» - оптативная модальность намерения (хочется, готов) сменяется реальностью осуществляемого действия (бегу). Нисходящее движение по лестнице имплицитно намечает мотив смирения. Наречие второго стиха - «Как будто выхожу впервые» - оттеняет новизну восприятия мира как следствие внутреннего обновления лирического героя. В третьем и четвертом стихах - «На эти улицы в снегу / И вымершие мостовые» - возникает образ городских улиц. Эпитет вы мер шие [мостовые], соотносящийся с отрицательным полюсом антитезы «бытие - небытие», может, с одной стороны, перекликаться с внутренним состоянием героя до «рассвета» (о бмор ок), с другой - отсылать к историческому хронотопу создания стихотворения, метонимически напоминая о неисчислимых потерях войны и тяготах первых послевоенных лет.
В следующей, пятой строфе, картина города меняется. Образы холода («улицы в снегу») и безжизненности («вымершие мостовые»), ассоциируемые с враждебным внешним миром, сменяются мотивами тепла и света, связанными с мыслью о семье и доме (... огни, уют /Пьют чай). Стремительность перемены, передаваемая обстоятельственным оборотом «в теченье нескольких минут», оттеняется асиндетическим нанизыванием неоднородных сказуемых (встают - огни, уют - пьют чай - торопятся).
В шестой строфе образы тепла и света вновь вытесняются картиной холодной, враждебной человеку стихии. В первом стихе этой строфы - «В воротах вьюга вяжет сеть» - лексема ворота, намечая границу между локусом внутреннего («огни, уют») и внешнего («улицы в снегу»), указывает на место столкновения разноприродных миров - «своего», гармоничного, и «чужого», хаотично-разобщенного. Образ вьюги, на фонетическом уровне создаваемый аллитерацией начального [в] ( воротах вьюга вяжет), актуализирует мотив угрозы. Ассоциативно связанный с мыслью о деформации пространства, потере пути, слово-символ вьюга становится знаком злой, противоестественной силы. Атмосфера опасности передается и персонифицирующей метафорой «вяжет сеть». Вводящая образ западни, метафора сети привносит восходящие к библейским текстам иносказательные co-значения «сокровенного зла», «страдания», «беды» [ср. Клименко 2008, 391]. В третьем и четвертом стихах напряженное звучание строфы усиливается глаголами семантики поспешности - «И чтобы во-время поспеть, / Все мчатся недоев-недопив..». Присущие предложным формам недо ев- недо пив идеи неполноты, ущербности коррелируют с мыслью об опасности, имплицитно вводя мотив тревоги.

В седьмой строфе топосы внешнего и внутреннего, личного и всеобщего сливаются в мотиве сострадания-сопричастности:
Я чувствую за них за всех, Как будто побывал в их шкуре, Я таю сам, как тает снег, Я сам, как утро, брови хмурю.
Троекратная анафора подлежащего «Я» подчеркивает предельную обнаженность душевных переживаний лирического героя. Сочетание местоимения 1-го лица с эпифорическим повтором местоимений 3-го лица («за них», «в их шкуре») высвечивает идею преодоления ограниченности своего «я» через обращение к «другим». Предельная глубина и широта сострадания, подчеркиваемая эмфатическим повтором «за них за всех», позволяет предположить здесь «контрапункт» голосов лирического героя и Иисуса Христа [Баевский 2011, 648], образ Которого, по замыслу Б.Л. Пастернака, является архетипом романа «Доктор Живаго» [Крашенинникова 1997, 207-208].
Сравнение второго стиха - «Как будто побывал в их шкуре» - раскрывает опыт переживания несчастья других изнутри. Отрицательная оценоч-ность и стилистически сниженная окраска фразеологизма побывал в их шкуре, грубость его внутренней, образной формы имплицирует мысль о непосильной тяготе бытия тех, кто окружает лирического героя. Метафора одежды-облачения, составляющая концептуальную основу фразеологизма побывал в их шкуре, имплицирует скрытые новозаветные параллели. В патристике этот образ иносказательно указывает на добровольное принятие на Себя Превечным Сыном Божиим тварной человеческой природы. Ср.: «Ради любви Сам Создатель естества <.. .> облачился в наше естество, непреложно соединив его с Собою по ипостаси» [Максим Исповедник 2019, 14]. Истоки этой метафоры - в Послании апостола Павла к филиппийцам: «.. .Уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти Крестной» (Фил. 2: 6-7).
Метафорическое сравнение третьего стиха - «Я таю сам, как тает снег» - имплицитно вводит мотив слез, плача. Он сопрягается с мыслью о предельном самоумалении, передаваемой присущими глаголу таять семами уменьшения, исчезновения. Евангельский контекст стихотворения высвечивает символические смыслы, скрывающиеся за явлениями видимого мира. Образы воды (снег) и таяния (таю) могут отсылать к строкам 21 псалма, дающего пророческий прообраз Крестных мук: «Яко вода из-лияхся, и разсыпашася вся кости Моя. Бысть сердце мое яко воск таяй посреде чрева Моего» (Пс. 21: 15-16).
Метафорическое сравнение четвертого стиха - «Я сам, как утро, брови хмурю» - является глагольным парафразом названия романа «Хмурое утро», третьего тома трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» (1922-
-
1941). Этот стих имплицитно напоминает о народных страданиях, перекликаясь со словами-символами война, разруха в начальной строфе стихотворения.
Во всей полноте сопряженные мотивы сострадания и единения раскрываются в заключительной, восьмой строфе, с ее центральным образом преодоления-победы:
Со мною люди без имен, Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, И только в том моя победа.
Темпоральная обобщенность начального безглагольного предложения - «Со мною люди без имен, /Деревья, дети, домоседы» - максимально расширяет хронотопические границы художественного текста. Значения подлежащих объединяет идея малости, незначительности, соотносимая с мыслью о крайнем смирении. Сочетание люди без имен, синонимичное слову толпа (III строфа), вводит образ множества неизвестных лирическому герою «маленьких людей», чья «безымянность» - свидетельство их обыкновенности, и, одновременно, архетипичности. В тринадцатой главке XV части («Окончание») так именуется Юрий Живаго, чей жизненный путь явился последовательным и добровольным отказом от всего того, что метонимически называется именем - репутации, известности, знаменитости: «Весть о смерти человека почти без имени с чудесной скоростью облетела весь их круг. Набралось порядочное число людей, знавших умершего в разную пору его жизни и в разное время им растерянных и забытых. У его научной мысли и музы нашлось еще большее количество неизвестных друзей» [Пастернак 1998, 494]. В семнадцатой главке этой же части, сообщая о гибели Лары, автор использует тождественное прилагательное безымянный в его прямом значении: «Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера» [Пастернак 1998, 503].
Второе подлежащее стиха - деревья - вводит образ живой, одухотворенной природы, имплицируя сложные ценностные ассоциации. Образ дерева, сближающий по вертикали земное с небесным, напоминает о жертвенной символике Крестного древа, которым миру был явлен путь спасения [Ханзен-Леве 2003, 624; ср. Скоропадская, 2017]. Следующее из череды подлежащих - дети - указывает на тех, в которых раскрывается чудесная и победительная сила «покорной обстоятельствам и верной себе чистоты» [Пастернак 1988, 9], делающая их сопричастными миру небесному. В контексте предшествующих стихов слово дети может служить напоминанием о евангельском идеале смирения: «Истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18: 3-4). В значении последнего подлежащего - домоседы - идея умаления преломляется в коннотациях уединения, тишины, внешней бездеятельности. Находящиеся вне стремительного потока жизни города, где все «торопятся» и «мчатся», домоседы - это собирательный образ тех, кто стал непричастным житейской суете.
Сказуемое третьего стиха «Я ими всеми побежден», содержательно близкое метафорически переосмысленным формам покорен, пленен (наир., добротой), запечатлевает мгновение свободного признания лирическим героем своей неполноты и несовершенства. На смену «элитарной» обособленности личности приходит чувство сопричастности всем и каждому. Отказ от самоценности «я», означающий «постоянный исход из самого себя» [Лосский 2004, 264], рождает у лирического героя способность созерцать красоту «другого», в которой преодолевается эгоистическая ограниченность. Эта мысль о самоотверженной неизбирательности сострадания, не разделяющего мир на злых и добрых, с особой отчетливостью выразится в стихотворении 1953 г. «Свадьба», где идея единения («я» - «все») передается метафорой дара: «Жизнь ведь тоже только миг, / Только растворенье / Нас самих во всех других / Как бы им в даренье» [Пастернак 1998, 531].
Заключительный стих - «И только в том моя победа» - утверждает существование лирического героя в бытии Абсолютном. Антиномичность финальных стихов - поражен vs. победа - отражает парадоксальную реальность нравственного закона, актуализируя интертекстуальные параллели с Новым Заветом: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23: 12). В темпоральной семантике слова победа план настоящего - как итог преодоления внутреннего и внешнего зла через подвиг самоотдачи - размыкается в бесконечность вечности, в которой осуществится совершенная полнота бытия.
Проведенное исследование позволяет утверждать, что метафоры, насыщенные символическими иносказательными созначениями, реализуют в стихотворении Б.Л. Пастернака «Рассвет» скрытые ценностные смыслы, сообщая тексту семантическую многоплановость. Стихотворение раскрывает центральную для романа «Доктор Живаго» тему преодоления ограниченности человеческого «я» через подвиг самоотдачи. «Смысловым ключом» к пониманию стихотворения является Евангельская аллюзия второго стиха «Всю ночь читал я Твой Завет», намечающая «вертикальный» контекст, в рамках которого посредством метафорических образов раскрываются сложные аксиологические смыслы. Постижение Ты «как абсолютного внутреннего обязывающего начала» [Гуссерль 1995, 316] заставляет лирического героя обратиться от себя-как-центра к другим. Отказ от самоценности «я», размыкающий круг эгоистической самодостаточности личности и утверждающий ее в бытии вечном, предстает в анализируемом стихотворении как единственная возможность осуществления неизменного нравственного закона. В этом отказе от самоценности «я» ради «друго- го» манифестируется традиционная для русской литературы ценностная парадигма, обращение к которой может способствовать противодействию угрозе деаксиологизации личности и обесценивания человеческих отношений в контексте возрастающей технократизации общества, релятивизации морали и абсолютизации эгоцентризма.
Список литературы Особенности метафорической экспликации ценностных смыслов в стихотворении Б.Л. Пастернака "Рассвет" (к вопросу о путях преодоления угрозы деаксиологизации личности)
- Анненкова И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. М., 2011.
- Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004.
- Баевский В.С. Пушкинско-пастернаковская культурная парадигма. М., 2011.
- Воротынцева К.А., Тюпа В.И. Повседневность и катастрофа в романе «Доктор Живаго» // Новый филологический вестник. 2014. № 1 (28). С. 109-124.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология. ХХ век: антология. М., 1995. С. 297-330.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1. М., 1956.
- Заботкина В.И., Боярская Е.Л. К вопросу о динамической концептуальной семантике: моделирование структуры концепта «Преодоление» // Когнитивные исследования. 2020. № 43 (в печати).
- Заботкина В.И., Коннова М.Н. Оппозиция «временное - вечное» в стихотворении Б.Л. Пастернака «Бальзак» (к вопросу об угрозе деаксиологизации культуры) // Новый филологический вестник. 2019. № 4 (51). С. 255-268.
- Клименко Л.П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Нижний Новгород, 2008.
- Крашенинникова Е. Крупицы о Пастернаке // Новый мир. 1997. № 1. С. 204-213.
- Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Киев, 2004.
- Лосский Н.О. Ценность и Бог. Бог и Царство Божие как основа ценностей. Харьков; М., 2000.
- Максим Исповедник, преподобный. Послание к Иоанну Кувикуларию о любви // Максим Исповедник, преподобный. Мистагогия. М., 2019.
- Малыгина И.В. Идентичность в пространстве пост-культуры // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2019. Вып. 13 (829). С. 173-185.
- Пастернак Б. Борис Пастернак - Галине Улановой // Советская культура. 1988. № 148 (6560). С. 9
- Пастернак Б. Избранное: в 2 т. Т. 2. Доктор Живаго. СПб., 1998.
- Пастернак Б. Письма к Жаклин де Пруайяр // Новый мир. 1992. № 1. С. 127-189.
- Пастернак Б. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М., 1989.
- Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы к биографии // Наследие. Искусство. Величие: [сайт]. URL: http://pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya.htm (дата обращения: 3.07.2020).
- Переписка Бориса Пастернака. М., 1990.
- Скоропадская А.А. Библейские мотивы в изображении деревьев в стихах Юрия Живаго (по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго») // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 7 (168). С. 111-113.
- Тюпа В.И. Рассвет // Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении / под ред. В.И. Тюпы. М., 2014. С. 461-465.
- Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- Франк С.Л. Непостижимое // Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-559.
- Ханзен-Леве А. Русский символизм: система поэтических мотивов. СПб., 2003.