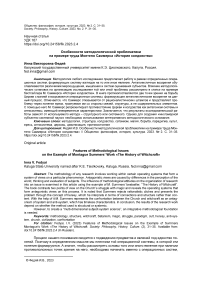Особенности методологической проблематики на примере труда Монтегю Саммерса "История колдовства"
Автор: Федяй Инна Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
Методология любого исследования предполагает работу в рамках определенных операционных систем, формирующих систему взглядов на то или иное явление. Антагонистичные воззрения обуславливаются различиями мироощущения, мышления и систем оценивания субъектов. Влияние методологических установок на организацию исследования той или иной проблемы рассмотрено в статье на примере бестселлера М. Саммерса «История колдовства». В книге противопоставляются две точки зрения на борьбу Церкви с магией и вскрываются операционные системы, формирующие антагонистические воззрения на данный процесс. Отмечается, что Саммерс отказывается от рационалистических штампов и представляет проблему через понятие ереси, трактуемое им со стороны связей, структуры, а не содержательных элементов. С помощью него М. Саммерс репрезентирует противостояние Церкви и колдовства как антагонизм системы и антисистемы, имеющий вневременные характеристики. Заключается, что результаты исследовательской работы зависят от используемого метода - структурного или системного. Однако для создания «многомерной субъектно-системной науки» необходимо использование интегративного методологического основания.
Методология, структура, колдовство, сатанизм, магия, борьба, парадигма, культ, ересь, антисистема, церковь, цивилизация, противостояние
Короткий адрес: https://sciup.org/149142211
IDR: 149142211 | УДК: 167 | DOI: 10.24158/fik.2023.2.4
Текст научной статьи Особенности методологической проблематики на примере труда Монтегю Саммерса "История колдовства"
формирующих антагонистичные воззрения, т. е. с их причин. Одной из них является различие методологических установок, сформированных противоположными способами мироощущения, мышления и оценивания. Именно эти первоначальные положения и организуют научное исследование, являются его регулятором.
Классическим примером того, как меняется трактовка того или иного явления в результате изменения методологии, нам представляется работа М. Саммерса «История колдовства» (Саммерс, 2022). В этом труде средневековое ведьмовство и борьба с ним Церкви предстают совершенно в ином свете, нежели в многочисленных исследованиях на данную тему других современных авторов. Выводы М. Саммерса радикально противостоят общей тенденции Нового и Новейшего времени представить борьбу Церкви с колдовством как проявление фанатизма и невежества. Исследование ученого заставляет по-новому посмотреть на анализируемую проблему и отойти от рационалистических штампов, характерных, увы, и для нашего времени.
Изменить способ видения проблемы – это значит использовать другие ключевые установки. Именно это доказывает исследование М. Саммерса. Он начинает работу с выявления основных принципов, предопределяющих мейстримную в современной литературе точку зрения на колдовство и направляющих ее в русло рационалистических штампов. Это, во-первых, установка рассматривать ведьмовство и сатанизм как явления, возникшие лишь в эпоху Средневековья; во-вторых, понимание культа ведьм только лишь как одного в ряду других – со специфическим содержанием и не более того; в-третьих, убеждение, что данный культ в качестве религиозного или интеллектуального воззрения является оппозиционным исключительно христианской Церкви и не касается ни социальной сферы, ни политической. Определив эти центральные принципы защитников культа ведьм, М. Саммерс их последовательно разбивает.
Исследование начинается острейшей полемикой с антропологической работой М. Мюррей «Культ ведьм в Западной Европе» (Murray, 1921), цель которой состоит в том, чтобы доказать, что средневековый сатанизм (культ ведьм) – это ересь, а не пережиток языческого культа богини Дианы. Ведь для того чтобы изменить способ видения проблемы, нужны понятия. Вот в качестве основного понятия, представляющего проблему колдовства в совершенно новом парадигмаль-ном ракурсе, меняющем сам способ видения проблемы сатанизма, и используется ересь. Термин «ересь» вводится М. Саммерсом именно как понятие – со стороны связей, структуры, а не содержательных элементов. И под него, как под общий знаменатель, он подводит культ ведьм, тем самым определяя структурную матрицу сатанизма, а значит, обнаруживая его отличие от религии не по признакам и свойствам, а по структурообразующему принципу.
Дело в том, что отличие всех антисистемных, культуроразрушающих движений является не столько содержательным, сколько структурным. Все они, «… имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой – неприятием действительности. Подобно тому, как тени разных людей непохожи друг на друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам, так различались эти исповедания. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его являлось отрицание. В отрицании была их сила, но также и слабость: отрицание помогало им побеждать, но не давало победить» (Гумилев, 2004).
Культ есть понятие культурообразующее, а ересь – культуроразрушающее. По отношению к культурам ересь имеет обратную ориентацию и иной источник происхождения. Данным понятием Саммерс сразу улавливает ведьмовство, таящееся в недрах культурно-исторического существования в качестве явления антисистемного, противоположного социуму на всех уровнях – от религиозного до политического. Тем самым писатель и оказывается в поле теории антисистем.
Таким образом, если религиозные культы представляют собой системы, то ересь – антисистему. Различие между ними не содержательное (у ереси нет своего содержания), а структурное. Оккультизм – это окраска, а ересь – структура. И противостоят ереси религиозным культам так же, как антисистема противостоит системе в концепции Л.Н. Гумилева (Гумилев, 1993). Подведя сатанизм и колдовство под понятие ереси, мы сразу оказываемся в методологическом плане структурного противостояния «система – антисистема» Л.Н. Гумилева (Гумилев, 1993).
Ересь, или антисистема, в качестве концепта является операционной средой, формирующей примитивную горизонтально-сетевую структуру существования – глобализацию, где под именем тысячи культов исповедуют единый принцип неразличения. Концепт сети – это рост дроблением, клонированием; вместо государства – корпорации, а общество – как мегасекта, сетевое. Именно дробление в данной установке является структурирующим принципом. Поэтому расти таковые движения могут только количественно по сетевому принципу – внешняя, количественная неопределенность однообразных единиц. Когда же рост организации превышает сферу ее действия, она дробится.
Этот сетевой принцип и является основой всех антитрадиционных движений. Можно сказать, что они представляют собой единую альтернативную церковь, где под именем тысячи богов, теорий, идеологий сознательно почитается одно и то же – антитрадиционализм. Колдовство в качестве ереси не исключение. Отсюда и специфика цели еретического прозелитизма – оторвать от той или иной традиции и оставить в состоянии распада. Ибо ересь представляет собой обратную ориентацию, она работает сжатием. Поглощает, не насыщаясь, высасывает, оставаясь пустотой. Можно предположить, что весь профанированный, плоский мир (концепт модерна) – результат ереси, а не светскости.
Кроме того, есть понятие ереси, а есть ее переживание. Все современные критики сектантства исходят именно из первого, тогда как сами сектанты (не случайные, а «рецидивисты») – из второго. Не они находятся в ней, как в каком-то внешнем движении, а она – в них. Н. Гумилев, например, пишет о наличии двух несовместимых психологических структур – культурообразующей и культуроразрушающей – как о явлении глобальном, пронизывающем всю мировую историю (Гумилев, 1993). Поэтому ересь является для них не средством достижения какой-то цели, а целью самой по себе, единственно возможным способом существования; не ценностью, а способом оценивания и осмысливания реальности. Это и есть то главное и неуловимое, что необходимо принять во внимание, чтобы говорить не о следствиях и частностях, а о причинах этого явления (Федяй, 2014: 7–11).
Ведь человек прикладывается к реальности всей своей личностью, а не только мышлением. На самом деле для отвлеченного мышления действительность вообще недоступна, только существенное может приобщаться к существенному (тезис И. Киреевского1). Таким образом, приобщение к реальности есть функция не мышления, а личности в ее целостности. И в основе такого приложения лежит волевой выбор. Мы знаем то, что хотим знать и верим в то, во что хотим верить. Аргументы уже подводятся под выбор, а не выбор определяется аргументами. В общем, не по-хорошему мил, а по милу хорош!
Все идеологии «работают» потому, что задействуют не столько понимание, сколько переживание. Доводы уже подгоняются под чувства, а не чувства – под доводы. Таким образом, действие любой пропаганды зависит от нравственно-психической структуры личности. Любое знание есть внешнее, видимое оформление внутреннего, невидимого психотипа: «Люди забывают, что критическая деятельность должна быть основана на методе, который не может быть получен чисто критическим путем. В действительности он вытекает из склада каждого конкретного мышления, и, таким образом, результат критической деятельности определяется методом, а он в свою очередь – потоком существования, который несет на себе бодрствование и пронизывает его» (Шпенглер, 1998).
В чем сила тех или иных теорий? В их магичности. Ибо все идеологии действуют не только как некий смысл, но и как энергия, сила, волновое поле. Потому и овладевают массами, а не только ограниченным числом способных их понять интеллектуалов. Все распространенные учения потому и распространяются, что резонируют с определенным типом людей, их внутренним настроем, вызывая в них эмоциональный отклик, переживание. И тайна всех овладевших массами теорий только в этом, а вовсе не в их рационально-понятийной аргументации. Так вот, в качестве переживания ересь представляет собой практики колдовства, магии, сатанинских шабашей. Все видят практику, но не замечают ее антисистемного концепта, в то время как он меняет всю цивилизационную структуру, переносит ее в иную операционную среду – неразличающую, сетевую. «Взрастает с магией ересь, с ересью же магия» (Самерс, 2022).
Определяя колдовство как концепт антисистемы, то есть как феномен паразитического (с содержательной стороны сатанизм дефинировать вообще невозможно, ибо у зла нет содержания, оно бессущностно), мы выходим на уровень не просто ключевых понятий и категорий, а способов их формирования. Или на уровень метаязыков.
Таким образом, подведя культ ведьм под понятие ереси, М. Саммерс определяет его как антисистему, то есть как феномен иного парадигмального плана, а значит, существовавший и противостоящий системам всегда, а не только в период Средневековья.
Саммерс приводит доказательства того, что борьба против магии велась не только Церковью как хранительницей всей культурной системы эпохи, но и языческими императорами римской цивилизации (та же картина наблюдается в Древней Греции и Египте), и резюмирует: «М. де Каузон весьма критично отзывался о тех авторах, которые прослеживают историю ведьмовства не далее Средних веков: “C’est une mauvaise plaisanterie, – пишет он, – ou une contraverite flagrante, d’affirmer que la sorcellarie naquit au Moyen-Age, et d’attribuer son existence a l’influence ou aux croy-ances de l’Eglise” (Полной глупостью было бы считать, что ведовство возникло лишь в Средних веках, и связывать его появление с влиянием или верованиями католической церкви)» (Самерс, 2022). Цивилизации и культуры боролись с колдунами как с представителями маргинального мировоззрения всегда, признавая их структурными своими врагами, не обращая внимания на то, как они себя называют – маги, еретики, ведьмаки, масоны, демократы или глобалисты.
Определив, что средневековый сатанизм и колдовство – это вовсе не пережиток язычества и вообще не культ среди других культов, а ересь, Монтегю приходит к выводу, что ведьмовство есть «фактор политический», а значит, воюющий со всей системой – и с государством, и с обществом, а не только с Церковью. Ересь революционна, но не просто в плане общественном, а в плане цивилизационном (в качестве антисистемы). С ее позиции ставится под сомнение не только тип общества или политической власти, а сам культурообразующий способ бытия, структурная матрица цивилизации, представленная в культурно-исторических институтах. Ересь обнуляет цивилизацию как таковую во всех ее формах и проявлениях. Можно сказать, что ересь – это революция не внутри формы и не за иную форму, а против формы вообще. Не внутри культуры, а против нее. Эдакий цивилизационный луддизм.
Таким образом, ересь представляет собою движение не просто антицерковное, антимонархическое или антисоциальное, а антицивилизационное. Недаром Д.Д. Фрэзер предупреждает: «Проникнув в глубины магии, беспристрастный наблюдатель увидел бы в ней не что иное, как постоянную угрозу цивилизации. Мы, как видно, движемся по тонкой корке, которая может в любой момент треснуть под воздействием дремлющих подземных сил» (Фрэзер, 2006).
Итак, будем мы видеть какое-то явление или нет – это зависит от того, каким методом мы пользуемся. На сегодняшний день таковых существует два: метод структурного анализа и метод системного анализа. Это определяет два способа организации исследования. Метод структурного анализа предполагает выделение морфологической смысловой константы. Ибо структура есть константа смысла, тирания внутренней идеи, а внутреннее не может быть создано внешним, как центр – окружностью, высшее – низшим, сущность – свойствами, целое – частями. Это тирания целого, определяющего свои части. Структуру нельзя рассматривать с исторической стороны, она носит нормативный характер. Время и обстоятельства меняют лишь признаки и свойства структурной константы, лишь проявления, но не само проявляющееся. Доминанта, определяющая ту или иную структуру, измениться не может – только погибнуть. Любые внешние формы представляются частными проявлениями ее внутренних принципов.
В социологии рассмотрение общества с данной позиции называется методом структурного анализа, но в плане общих установок методологического подхода у этого видения названия нет. Оно понятийно не определено, хотя именно на нем основан цивилизационный подход к истории. Смысловая константа – это те самые культурно-исторические типы Данилевского (Данилевский, 2008) или формы Шпенглера (Шпенглер, 1998). Это та самая этнокультурная доминанта у Л.Н. Гумилева (Гумилев, 2004), на ликвидацию которой направлен антитрадиционный прозелитизм. Определим его как «сущностную методологию».
Антагоничен структурному метод системного анализа. В нем социум видится как нечто индивидуальное. Содержание, структура, целое здесь вторичны. Есть результат той или иной сборки, который определяется моментом и внешними обстоятельствами. В границах данной методологии и находятся все линеарные установки: и культурологические, и исторические, и философские. Если сущностный подход исходит из целого, которое определяет проявление во времени и свойств и частей; то сборочный – из частей, проявляющихся то в том, то в ином узоре в зависимости от обстоятельств.
Можно сказать, что именно сущностная методология (структурный метод) позволяет М. Саммерсу увидеть в магии и сатанизме особую, специфическую силу – «Малый народ» – как еретическую, антисистемную структуру, обратно ориентированную по отношению к «Большому народу», в рамках которого она гнездится; показать, что его и наш способы существования – явления разного порядка. М. Саммерс ставит своей целью изучение еретической среды этого «малого сообщества», которое рождается внутри большого, растет там и, наконец, там же господствует в определенные периоды, но при этом не имеет ничего общего ни с его нравами, ни с законами, ни с интересами, ни с верованиями. Тем самым М. Саммерс, по нашему мнению, предвосхищает теорию антисистем Л.Н. Гумилева (Гумилев, 1993).
Возможно то, что системоцентричность новоевропейской науки об обществе, на что жалуется А.И. Фурсов: «… субъектное было сведено к субъективному, приобретая характеристики чего-то второстепенного. В результате из поля зрения исчезли важнейшие агенты исторических изменений, а сами эти изменения стали изображаться как филиация одной системы из другой, одного комплекса “объективных факторов” из другого» (Фурсов, 2016: 154), является следствием игнорирования теории антисистем и антисистемного субъекта. В результате современное разрушение культурных организмов во всех их институтах и формах воспринимается как нечто происходящее само собой (естественная энтропия).
Надеемся, что методологический опыт М. Саммерса поможет «… разработать субъектоцентричную науку и, синтезировав ее с системоцентричной, создать полноценную, многомерную субъектно-системную науку» (Фурсов, 2016: 154), ибо, по нашему мнению, субъектный подход и теория антисистем необходимо предполагают друг друга и порознь не работают.
Список литературы Особенности методологической проблематики на примере труда Монтегю Саммерса "История колдовства"
- Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М., 2004. 416 с.
- Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. М., 1993. 544 с.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германороманскому. М., 2008. 812 с.
- Саммерс М. История колдовства. М., 2022. 302 с.
- Федяй И.В. Традиция и антитрадиция. Бишкек, 2014. 184 с.
- Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 2006. 958 с.
- Фурсов А.И. Мировая борьба. Англосаксы против планеты. М., 2016. 510 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н/Д., 1998. 637 с.
- Murray M.A. The Witch-Cult in Western Europe: a Study in Anthropology. N. Y., 1921. 303 р.