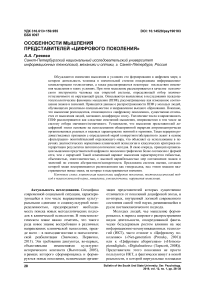Особенности мышления представителей "цифрового поколения"
Автор: Грекова Алия Александровна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Общая психология
Статья в выпуске: 1 т.12, 2019 года.
Бесплатный доступ
Обсуждаются изменения мышления в условиях его формирования в цифровом мире, в котором деятельность человека в значительной степени опосредована информационно-компьютерными технологиями, а также рассматриваются некоторые последствия изменения мышления в таких условиях. При этом мышление рассматривается в качестве психического инструмента человека как открытой системы, определяющей отбор значимого/незначимого из окружающей среды. Описываются выявленные в исследовании псевдопатопсихологические феномены мышления (ППФ), рассматриваемые как измененное соотношение знаков и значений. Приводятся данные о распространенности ППФ у молодых людей, обучающихся различным специальностям и направлениям высшего образования. Показано, что мышление респондентов, относящихся к «цифровому поколению», существенно отличается от мышления людей, заставших доцифровую эпоху. Увеличение числа и вариативность ППФ рассматривается как следствие изменений мышления, опирающегося в том числе на систему отбора значимого/незначимого. Установлено, что мышление представителей доцифровой эпохи основано на использовании общепринятой иерархии антропоцентрически организованных родовых и видовых характеристик понятий и терминов. Такая иерархия родовых/видовых признаков с определенной мерой конкретного/абстрактного лежит в основе «фильтрации» понятий/явлений окружающего мира, что объясняет ее использование в перечнях диагностических нормативов клинической психологии и классических критериев интерпретации результатов патопсихологических методов. В свою очередь, принцип организации мышления представителей цифрового поколения графически более соотносим с формой сети, чем с иерархией Такой измененный вариант мышления характеризуется гибкостью, объемностью, многозначностью, с высокой вариабельностью мер соотношения знаков и значений по степени абстрактности/конкретности. Предложена система оценки, согласно которой знаки воспринимаются респондентами как гиперссылка, над этими знаками надстраиваются новые знаки, на которые и надстраиваются значения.
Клиническая психология, цифровое поколение, постнеклассический подход в психологической науке, мышление, умозаключение, нарушения мышления
Короткий адрес: https://sciup.org/147233070
IDR: 147233070 | УДК: 316.613+159.955 | DOI: 10.14529/psy190103
Текст научной статьи Особенности мышления представителей "цифрового поколения"
Актуальность исследования. Специфика современной социальной ситуации, характеризующейся в том числе выраженными культуральными сдвигами и социокультурной неопределенностью, предопределяет необходимость поиска новых методологических подходов в клинической психологии. В эпистемологическом плане важно отметить, что такого рода новое знание востребовано в различных направлениях клинической психологии, прежде всего – в психодиагностике и психологической реабилитации (Зинченко, Первичко, 2013). Эти требования диктуются, во-первых, объективными изменениями культурноисторического контекста (Выготский, 2005), в рамках которого сформировались и формируются новые поколения, психическая органи- зация представителей которых существенно отличается от поколений доцифровой эпохи, и во-вторых, внутренней логикой современного состояния самой этой науки, развивающейся в русле постнеклассического подхода.
Молодых людей, чье мышление формировалось в период широкого распространения видов деятельности, опосредованной фактически безудержным ростом влияния на нее информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), часто относят к «Цифровому поколению» («Net-generation (Prensky, 2001)) или к «Цифровым аборигенам» («Homosa-piensdigital», «Digitalnatives» (Tapscott, 2008)). Представители этого поколения не просто пользуются ИКТ, а фактически живут в новой реальности, в которой виртуальные площадки стали «естественным социальным ландшафтом» (Tapscott, 2008). Психические процессы у представителей цифрового поколения формируются в деятельности (общение, игра), во многом опосредованной виртуальной средой (Карр, 2012; Prensky, 2001; Tapscott, 2008). Развитие в цифровой «окружающей среде» оснащает Net-geners новыми приобретениями в психике (например, способностью к высокой эффективности при работе с информацией) и новыми физиологическими навыками (например, более острым восприятием визуальных объектов в случае использования графического компьютерного интерфейса (Tapscott, 2008). Появление новых возможностей психической организации одновременно несет в себе риск утраты наработанных ранее социальных, физиологических, психических достижений, неизбежно меняя специфику мышления, внимания, памяти (Карр, 2012; Шпитцер, 2014). Патопсихологическая диагностика мышления психически здоровых людей на современном этапе фиксирует изменения в мыслительных операциях категоризации и обобщения (Кобзова, Зверева, Щелоко-ва, 2018; Султанова, Иванова, 2017). Проявления клиповости мышления, фрагментарный характер осваиваемых знаний, поверхностность восприятия информации, неустойчивость процессов внимания (Павлова, 2007; Шпитцер, 2014), «интеллектуальный серфинг» вместо системной интеллектуальной работы (Карр, 2012), делегирование решения личных задач разнообразным «интеллектуальным устройствам» (девайсам, гаджетам и т. п.) (Тхостов, Емелин, 2010) могут являться следствием недозагруженности работой соответствующих мозговых структур, замедления роста нейронной ткани и снижения нейропластичности головного мозга, вплоть до редукции многих его способностей, связанных с памятью, ориентированием, концентрацией внимания, углублением, пониманием. Потенциальные опасности несет в себе потеря или снижение способности к системному и углубленному познанию, к критическому мышлению и индуктивному анализу (Курбатов, 2013; Шпитцер, 2014).
Считается, что Net-мышление носит символический характер и имеет особые признаки: гипертекстуальность, полифоничность, распределенность, мозаичность или клипо-вость, месседжевый характер (Курбатов, 2013). Отмечается, что такое мышление не является аналогом устной или письменной речи. Наступление последствий более широкого проявления такого типа мышления в популяции является опасным с социальной точки зрения, поскольку делает человечество значительно более уязвимым перед информационными воздействиями и манипуляциями со стороны использующих ИКТ структур, организаций и отдельных людей.
«Наноскорости» цифрового мира задают современному человеку и новый, ускоренный ритм его жизни. Время становится в дефиците, ход его сжимается, а возможность его эффективного использования перераспределяется и рассеивается в случае работы с большим объемом информации. Мир становится очень динамичным и требует от человека готовности к постоянным изменениям (Бауман, 2008; Емелин, Тхостов, 2015; Черниговская, 2016).
Постнеклассический подход, рассматривающий человека как сложную самоорганизующуюся динамическую систему, представляется наиболее релевантным для исследования мышления у относящихся к цифровому поколению людей: «Любые открытые системы должны иметь возможность отбирать из окружающей среды только то, что нужно системе в данный момент для обеспечения устойчивого существования системы. Сложность открытой системы определяется сложностью присущего ей способа отбора значимого из окружающей среды, значит, сложностью аппарата, маркирующего безразличную среду в пользу системы, текущее состояние которой весьма подвижно само по себе, но еще более важно, что оно меняется в самих актах взаимодействия со средой» (Клочко, 2007). В контексте вышеизложенного следует отметить, что именно мышление является психическим инструментом отбора такого значимого/незначимого.
Таким образом, изучение мышления у представителей цифрового поколения, присущих ему способов отбора значимо-го/незначимого из окружающей среды становится актуальным для современной клинической психологии.
Цель, выборка и методы исследования
Цель исследования: изучение особенностей мышления людей, относящихся к представителям цифрового поколения.
В выборку исследования были включены 487 респондентов, в том числе 277 лиц муж- ского и 210 лиц женского пола (56,9 и 43,1 % выборки соответственно). Основную группу составили 319 респондентов в возрасте 18–20 лет, обучающиеся по специальностям, связанным с программированием, студенты трех высших учебных заведений (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский горный университет).
Были сформированы и обследованы контрольные группы , состоящие из психически здоровых студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся на разных направлениях и специальностях, но не связанных с программированием. Кроме того, в состав контрольных групп включались лица разного возраста, чье мышление сформировалось в доцифровую эпоху.
В состав контрольных групп были включены студенты (в возрасте 19–20 лет) и аспиранты (в возрасте от 24–35 лет), обучающиеся:
-
• педагогическим специальностям в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (численностью 41 человек);
-
• инженерным специальностям в сфере машиностроительных технологии, энергомашиностроения, специального машиностроения в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана» (численностью 31 человек);
-
• Инженерно-технологическим специальностям в сфере пищевых биотехнологий и низкотемпературных технологий в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (численностью 51 человек).
Критерием включения студентов, магистрантов и аспирантов в основную и контрольную выборку являлось то, что их психическое развитие происходило в условиях виртуализации культурно-исторического пространства и формирования деятельности в условиях распространения ИКТ.
Кроме того, в соответствии с дизайном исследования, в контрольную выборку включались респонденты в возрасте 35–50 лет, имеющие высшее образование (инженерное, экономическое, медицинское, психологическое), проявляющие социальную и экономическую активность, имеющие хорошие поль- зовательские навыки владения персональным компьютером и использующие сеть Интернет (всего 45 человек). Критерием включения этой группы респондентов в состав контрольной группы являлось то, что их мышление формировалось в «доцифровую» эпоху.
Методы и методики исследования. В программу исследования включены широко применяющиеся в патопсихологии две классические экспериментально-психологические методики изучения операциональной стороны мышления: «Исключение лишнего» и «Сравнение понятий» (Рубинштейн, 2010).
Включение именно этих методик обосновывалось следующими аргументами:
-
1) методики позволяют исследовать особенности аналитико-синтетической деятельности, базирующейся на выделении значимо-го/незначимого во включенных в стимульный материал понятиях;
-
2) методики имеют основания для исследований динамики психического развития в норме.
Правила интерпретации и анализа данных экспериментальнопсихологического исследования
Все ответы респондентов по предъявляемым стимулам методик распределились по двум условным группам: «нормативные» ответы и «ненормативные». Ненормативные ответы представляют собой обобщения, основанные на латентных признаках, а также ответы, в которых отсутствует сам акт обобщения либо отмечаются различные искажения процесса обобщения. Все разнообразные варианты ненормативных ответов были объединены термином «псевдопатопсихологические феномены мышления» (далее – ППФ). По своей форме ППФ представляются схожими с патологическими проявлениями, регистрируемыми в классических патопсихологических экспериментах у лиц с нарушениями мышления по типу шизофренического патопсихологического синдрома. Однако в описываемом исследовании такие ППФ имели в своей основе не патологическую, а культурно-историческую природу. Кроме того, в отдельную пограничную категорию были выделены широкие обобщения с его дефектом, представляющие собой обобщения с пропуском ближайшего обобщающего понятия. Основания для обобщения в этих случаях были достаточно абстрактны (например, опора на физи- ческие свойства, статику/динамику). Опираясь при обобщении понятий на эти свойства и категории, респонденты достаточно легко могут допускать логические ошибки и в конечном итоге приходить в своих рассуждениях к искаженным вариантам обобщения (Алехин, Грекова, 2018).
Все полученные в исследовании ППФ рассматривались как образцы мышления, в которых значимым является то, что в классической патопсихологии считается несущественным с точки зрения оценки испытуемым иерархии родовых/видовых признаков, меры абстрактного/конкретного. При этом наличие 3 и более ППФ рассматривалось как наличие изучаемого эффекта – специфического изменения мышления у представителей «цифрового» поколения.
Многочисленность и вариативность проявлений ППФ поставили задачу определения оснований для классифицирования их в целях качественного анализа. Поскольку по форме полученные в настоящем исследовании ППФ приближены к феноменам, встречающимся при расстройствах мышления, представляется обоснованным распределять ППФ по критериям, предложенным Т.В. Чередниковой для оценки мышления больных шизофренией (Чередникова, 2011). Распределение ППФ по параметрам осуществлялось 4 экспертами (2 врача-психиатра с ученой степенью и более чем двадцатилетним стажем медицинской практики и 2 клинических психолога со стажем практической работы в области судебной экспертизы более 10 лет). Всего было использовано 16 критериев оценки ППФ (15 «стандартных» и 1 оригинальный для настоящего исследования).
В рамках семиотического анализа полученных ППФ предполагалось, что все эти ППФ могут быть рассмотрены как те или иные изменения соотношения знаков и значений. В последующем такие изменения соотношений были операционализированы и номинированы следующим образом:
-
1. Чрезмерная частность, конкретика. Знак не воспринимается в целостности, восприятие и мышление соскальзывают на частные, случайные свойства этого знака. Например, «штопор лишний – он не хранится в гараже».
-
2. Чрезмерная абстракция/широта. Над знаком надстраивается знак широкого порядка, на который и нанизывается значение. Например, над понятием «свеча» надстраивается
-
3. Надстраивание знаков над знаками (скольжение по поверхности понятий, ассоциации). Надстраивание знаков похоже на явление «виртуализации знака»: знак воспринимается не как конкретное явление, предмет физического мира, а как симулякр, отсылка. Мышление «скользит» по предмету, воспринимает его как условность, отсылку на собственные ассоциации, интуитивные находки, впечатления и т.д. Подобный способ восприятия представляется аналогичным используемым художниками- абстракционистами: изображаемые предмет, человек, явление неважны сами по себе, но важно впечатление от него. Именно это впечатление и оставляет на полотне художник.
знак «явление физического мира», на вторичный знак и нанизывается значение.
Статистические методы. В подгруппах респондентов основной и контрольной группы рассчитывались значения первичных статистик выборочных данных. Статистический анализ различий в полученных данных по выборкам проводился с помощью расчета φ*-коэффициента углового преобразования Фишера.
Анализ результатов исследованияи их обсуждение
Полученные в исследовании данные изучались посредством процедур частотного, качественного и семиотического анализа
Частотные характеристики проявления ППФ в мышлении. Анализ распределения частоты представленности ППФ в ответах респондентов обеих выборок (в расчете на одного человека) свидетельствует, что появление 2 ППФ в ответах респондентов встречается в диапазоне 80–94,4 % численности выборки. Аналогично, частота встречаемости 3 и более ППФ отмечается минимум у 40 % респондентов и максимум у 75 % респондентов (табл. 1).
Установлено, что частота ППФ у аспирантов педагогических специальностей достоверно выше, чем у студентов-технологов (φ* эмп = 3,027; p < 0,001), студентов-программистов (φ* эмп = 4,442; p < 0,001), студентов конструкторно-технических специальностей (φ* эмп = 1,853; p < 0,005). В свою очередь, различия в характеристиках частоты встречаемости ППФ у студентов-программистов, технологов, специалистов технических специальностей не имеют между
Таблица 1
Усредненные удельные частотные характеристики встречаемости ППФ в группах респондентов
Наличие не менее 3 ППФ выявлено у 45 % респондентов из числа цифрового поколения, при том что какие-либо единичные примеры ППФ либо вообще их отсутствие отмечались у 55 % таких респондентов. В сравнении с этим какие-либо очевидные проявления ППФ (2 и более феномена) выявлены лишь у 17,8 % респондентов контрольной группы представителей «доцифровой» эпохи (у 82,2 % респондентов этой группы ППФ отсутствовали или были едины).
Таким образом, по количественному частотному показателю классически «ненормативных» ответов мышление психически здоровых молодых людей значительно отличает- ся от мышления респондентов старшего поколения. Отдельный интерес представляет установленное в исследовании увеличение числа ППФ у обучающихся педагогическим специальностям молодых людей.
Качественный анализ ППФ. Все ППФ распределились по 16 параметрам, оригинальный дополнительный параметр был внесен в таблицу под № 16 (табл. 2). Результаты рассмотрения каждого параметра оценки с точки зрения соотношения знаков и значений представлены в столбце 2 табл. 3, а представление ППФ как измененного соотношения знаков и значений – в табл. 2, столбец 3.
Общими по степени распространённости ППФ для респондентов всех исследованных групп стали три оценочных параметра: соскальзывания, актуализация латентных свойств, разноплановость (табл. 2, позиции № 1, 3, 5). Примеры ППФ, соответствующих параметрам (критериям) таких оценок этих категорий ППФ, представлены в табл. 3.
Таблица 2
Распределение ППФ по параметрам оценки соотношения знаков и значений у респондентов разных групп выборки (в % к числу ППС)
|
№ |
Параметры (критерии) оценки |
Соотношение знаков и значений |
Группы респондентов1 |
|||
|
И-Т |
И-К |
Пед |
Прг |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Соскальзывания |
Надстраивание знаков над знаками |
17,3 |
17,6 |
15,2 |
12,1 |
|
2 |
Актуализация конкретно-чувственных свойств |
Сужение, чрезмерная конкретика |
20,4* |
4,6 |
15,2* |
10,4 |
|
3 |
Актуализация латентных свойств |
Сужение, чрезмерная конкретика |
17,3 |
18,5 |
22 |
17,7 |
|
4 |
Обобщенные вербализации, «широкие обобщения» |
Широта, чрезмерная абстракция |
16,3* |
9,3 |
5,1 |
9 |
|
5 |
Разноплановость* |
Надстраивание знаков над знаками |
6,1* |
4,6 |
7,9* |
6 * |
|
6 |
Неадекватность |
Надстраивание знаков над знаками |
4 % |
5,6 |
6,9 |
17,4 |
|
7 |
Амбивалентность |
Сужение, чрезмерная конкретика / широта, чрезмерная абстракция + надстраивание знаков над знаками |
2 |
16,7* |
5,1 |
3,8 |
|
8 |
Резонерство |
Надстраивание знаков над знаками |
2 |
4,6 |
3,9 |
2,6 |
|
9 |
Вычурность |
Надстраивание знаков над знаками |
2 |
2,6 |
2,4 |
2,5 |
Окончание табл. 2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
10 |
Алогизм |
Надстраивание знаков над знаками |
3,6 |
3,7 |
4 |
2,6 |
|
11 |
Формализм |
Сужение, чрезмерная конкретика |
0 |
0 |
6,2 * |
2 |
|
12 |
Парадоксальность |
Широта, чрезмерная абстракция |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
|
13 |
Множественность |
Надстраивание знаков над знаками |
2 |
9,3* |
0 |
3,9 |
|
14 |
Неологизмы |
Надстраивание знаков над знаками |
2,5 |
0 |
2,4 |
3,4 |
|
15 |
Сверхвключаемость |
Широта, чрезмерная абстракция |
0 |
0 |
2,2 |
|
|
16 |
Наделение предмета частными характеристиками, введение доп. условий |
Сужение, чрезмерная конкретика + надстраивание знаков над знаками |
2 |
0 |
2,4 |
2,6 |
|
17 |
Метафоричность |
Надстраивание знаков над знаками |
2,5 |
2,9 |
1,3 |
1,6 |
Примечание . 1 – наименования групп респондентов: И-Т – студенты, обучающиеся инженернотехнологическим специальностям; И-К – студенты, обучающиеся инженерно-конструкторским специальностям; Пед – студенты, обучающиеся педагогическим специальностям; Прг – студенты, обучающиеся программированию.
* различия достоверны на p < 0,05.
Также достаточно распространёнными во всех группах респондентов, за исключением будущих педагогов, стали широкие обобщения или обобщенные вербализации (табл. 2, параметр № 4). В основу широких обобщений положены не антропологические либо культурные признаки, а химические, физические, цифровые и т. п. признаки. Было замечено, что в рамках широких обобщений мышление респондентов может оставаться эффективным и целенаправленным, но может и переходить в чрезмерную абстракцию, терять связь с конкретными понятиями, а также приводить к существенным искажениям обобщения. Примеры проявлений эффективного и неэффективного мышления в рамках широких обобщений (с использованием отдельных ответов к заданию на сравнение понятий) представлены в табл. 4.
Вероятно, что в рамках вынесения обобщений сложно сохранить баланс между кон-кретным/абстрактным и значимым/ незначимым. Мышление легко уравнивает, объединяет совершенно разные понятия. Например, допущение «солнце и свеча сходны тем, что когда-нибудь потухнут» приводит многих респондентов к выводу, что солнце и свеча более сходны, чем различны.
Таблица 3
Примеры ППФ, являющихся общими для респондентов всех групп по степени распространённости
|
Параметры (критерии) оценки |
Примеры ППФ |
|
Соскальзывания (12–17,6 %): нарушение целенаправленного хода мыслей, отклонение от смысловой связующей линии внутри предложений, со сменой или без смены темы |
Роза/шуба. Сходства: ориентация лепестков относительно друг друга и ворсинок шубы схожа (наслоение). И бутону, и шубе необходима «поддержка» для вертикального положения. В данном случае это стебель и вешалка. Различия: наслоение лепестков розы происходит из центра, и они смотрят вверх. Ворсинки шубы распространены по всей поверхности и смотрят вниз. Яблоко/книга. Путь к истине. Он открылся, как только Адам и Ева вышли из ворот Рая, благодаря яблоку, и он продолжается благодаря книгам. |
|
Актуализация латентных свойств : (17,3–22 %) суждения или ассоциации, раскрывающие неотъемлемые, хотя и вторичные, неявные свойства объектов |
Пистолет, в нем не используется ткань. Весы, в них наименьшее количество диоксида кремния. Ремень лишний. Конструкция, представленная на рисунке, не содержит сшитых частей. |
|
Разноплановость (4,6–7,9 %): замена логической и объективной аргументации субъективными ассоциациями – ссылками на собственные вкусы, оценки и др. |
Роза и шуба –печальны. Роза вянет быстро в сорванном виде, а животных убивают. Роза прячет сокровенное также, как и пальто. Это сходство. Роза боится мороза, а пальто от него защищает. Это различие. |
Таблица 4
Примеры широких обобщений по критерию эффективности/неэффективности мышления
|
Типы широких обобщений на основании физических свойств (стимул «Солнце/свеча») |
Примеры обобщений |
|
Обобщения с сохранением эффективности и целенаправленности мышления |
Излучают волны видимого спектра. Излучают энергию. Различие. Солнце светит из-за термоядерных реакций, а не из-за горения. Сходства: излучают фотоны. Различие: 4500 градусов Кельвина. Оба излучают свет и тепло, оба через какое-то время погаснут. Различия. Количество излучаемой энергии, а также в температуре пламени. Расстояние от любого человека на Земле до любой свечи на планете меньше, чем расстояние до любой звезды во вселенной. Разница во времени, через которое свеча и звезда погаснут, колоссальна. Состояние свечи после затухания практически никак не изменится, звезда же при достаточной массе может сколлапсировать в черную дыру, тем самым кардинально поменяв свое состояние |
|
Примеры обобщений с потерей связи с анализируемыми понятиями |
Оба состоят из атомов. Оба превратятся когда-то в космическую пыль. Оба когда-нибудь потухнут |
Наряду с общими для всех групп респондентов параметрами, можно выделить и специфику ППФ у каждой группы респондентов. Для будущих инженеров-технологов достаточно характерна (для 20,4 % численности выборки) актуализация конкретно-чувственных свойств (конкретно-ситуационных свойств), то есть обобщение на уровне допо-нятийных обобщений и суждений (см. табл. 2, параметр № 2). Например, при исключении из перечня четырех предметов (пила, штопор, топор, шуруп) лишнего респондент называет таковым штопор, так как он «не хранится в гараже». Для респондентов этой группы также в большей степени характерны неудачные языковые формулировки. Например, «солнце издает свет». В другом примере из четырех предметов (гитара, радио, телефон, письмо) респондент исключает гитару, поскольку «все остальное разговорное» и поясняет, что «письмо пишут, по телефону говорят, по радио говорят». Такой пример иллюстрирует то, что у респондентов этой группы чаще, чем у других, встречаются обобщения правильные по сути, но неудачно выраженные по форме. Заложенная в таком выборе мысль выражена либо неадекватным образом с точки зрения лексического значения, либо такая мысль не доведена до конца, не оформлена соответствующим образом.
Респонденты этой группы в наименьшей степени, чем респонденты других групп, используют абстрактные категории. Однако на фоне большей конкретности их мышления оно так же может быть отнесено к ис- следуемому новому формату мышления, поскольку ответы респондентов в целом представляют собой пеструю картину: сочетание нормативных и ненормативных ответов, комбинации различных ППФ, часто противоположных друг другу по принципу выделения значимого/незначимого. Широкие обобщения, основанные на физических свойствах (широкий, объединяющий взгляд), могут перемежаться с обобщениями, основанными на латентных признаках (суженный взгляд на понятие, выделение случайных свойств), и ответами конкретноситуационного характера.
У будущих педагогов объединенные по параметру «актуализация конкретночувственных свойств» ППФ встречаются в 15,2 % всех случаев. Наименее часто обобщения конкретно-ситуационного характера представлены у обучающихся программированию (10,4 %) и будущих инженеров-конструкторов (4,6 %).
У инженеров-конструкторов наиболее «востребованным» оказался параметр амбивалентности, отражающий попытки респондентов объединить в одно целое противоположно направленные и/или несовместимые понятия, без понимания или ощущения их взаимоисключения (табл. 2, параметр № 7, 16,7 % всех ППФ в этой группе). Наиболее часто такое свойство мышления оказалось востребованным при выполнении респондентами операций сравнения. Например: «Роза и шуба сходны тем, что нежны и колки при определенных условиях. Найти совершенную розу так же трудно, как найти совершенную шубу»; «Яблоко было живым, книга несколько стадий обработки назад была живой»; «Яблоко и книга тесно связаны по своему происхождению с деревьями. Чаще всего толщина страницы книги совпадает с толщиной листа у яблока»; «Яблоко/книга. В обоих предметах есть зерна, которые могут дать продолжение».
Для будущих программистов специфическим параметром оценки выносимых ими ППФ (17,4 % всех ППФ в этой группе) оказалась «неадекватность» – недостаточное соответствие суждений жизненной правде, принятым в обществе представлениям и чувственному опыту взрослого человека (табл. 2, параметр № 6): «книга/яблоко. Оба предмета „потомки“ деревьев». «Роза и шуба. Оба несут теплоту, но разного рода».
Следует подчеркнуть, что и амбивалентность, и неадекватность являются параметрами мышления, в основании которых лежит новый неклассический взгляд на понятия и явления.
Ненормативные ответы представителей контрольной группы были распределены в основном только по двум оценочным параметрам: актуализация конкретно-чувственных свойств (62,5 % всех ППФ в этой группе) и широкие обобщения (37,5 %).
Анализ ППФ на основе оценки видоизмененного соотношения знаков и значений. Установлено (табл. 5), что ППФ в форме надстраивания знаков над знаками в равной степени характерны для проявлений мышления молодежи цифрового поколения. Кроме того, ППФ как чрезмерное абстрагирование оказались также характерными для респондентов всех групп, но в большей степени для респондентов, обучающихся профессиям технической направленности. В свою очередь, ППФ как чрезмерная конкретизация встречаются у всех групп, с тем лишь отличием, что к ней больше склонны будущие педагоги и технологи и совсем не склонны респонденты, обучающиеся на инженеров-конструкторов.
Резюме
Мышление респондентов цифрового поколения существенно отличается от мышления респондентов, заставших доцифровую эпоху. Увеличение числа ППФ и их большее качественное разнообразие может рассматриваться как следствие изменений мышления, и вместе с ним, и системы отбора значимо-го/незначимого. Мышление представителей доцифровой эпохи выстроено по принципу использования общепринятой иерархии родовых и видовых признаков (Холодная, 2002), где базой и мерилом выступали антропоцентрические характеристики понятий и терминов. Общепринятая по общественному соглашению иерархия родовых/ видовых признаков с определенной мерой конкретного/ абстрактного, подобно фильтру, накладывалась у них на все понятия/явления окружающего мира. Такая иерархия была положена в основу диагностических нормативов клинической психологии и, соответственно, классических критериев интерпретации результатов патопсихологических методов. Принцип организации мышления представителей цифрового поколения в плане визуализации ее формы более соотносим с сетью, нежели с иерархией. Ро-довые/видовые признаки и свойства не выстроены в четкую иерархию, они равнопоряд-ковы. В таких случаях ППФ могут рассматриваться в качестве вариантов отклонения мышления от общепринятой в доцифровую эпоху иерархии. Новое мышление отличается гибкостью, объемностью, многозначностью, мера соотношения знаков и значений по степени абстрактности/ конкретности очень вариабельна. Знаки воспринимаются как гиперссылка, над знаками надстраиваются новые знаки, на которые и нанизываются значения. Увеличение разрыва между знаком и значением может рассматриваться как переход на более абстрактный уровень знаков, что является неизбежным при эволюции человеческой культуры и мышления (Соломоник, 2009).
Таблица 5
Распределение частоты встречаемости ППФ по критерию соотношения знаков и значений по группам (в % к общему числу ППФ)
|
№ |
Соотношение знаков и значений |
Группы респондентов |
|||
|
Инженеры-технологи |
Инженеры-конструкторы |
Педагоги |
Программисты |
||
|
1 |
Сужение, чрезмерная конкретика |
37,7 |
4,6 |
45,8 |
32,7 |
|
2 |
Широта, чрезмерная абстракция |
16,3 |
27,8 |
5,1 |
9,6 |
|
3 |
Надстраивание знаков над знаками |
42 |
50,9 |
44 |
53,9 |
|
4 |
Комбинация |
4 |
16,7 |
5,1 |
3,8 |
Полученные в описываемом исследовании данные могут быть учтены при оценке результатов патопсихологических экспериментов и при проектировании образовательных программ.
Список литературы Особенности мышления представителей "цифрового поколения"
- Алехин, А.Н. «Псевдопсихопатологические» формы мышления в современных условиях / А.Н. Алехин, А.А. Грекова // Вестник психотерапии. - 2018. - № 66 (71).- С. 137-151.
- Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.
- Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский. - М.: Смысл: Эксмо, 2005. - 1136 с
- Емелин, В.А. Деформация хронотопа в условиях социокультурного ускорения / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы философии. - 2015. - № 2. - C. 15-24.
- Зинченко, Ю.П. Постнеклассическая эпистемология в клинической психологии: возможности и перспективы. Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии / Ю.П. Зинченко, Е.И. Первичко // Сб. материалов Всерос. юбил. науч.-практ. конф.: «Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии (к 85-летию Ю.Ф. Полякова)», состоявшейся 14-15 февраля 2013 г. в ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет» и ФГБУ «НЦПЗ» РАМН / под общ. ред. Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. - М., 2013. - С. 10-13.
- Карр, Н. Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами / Н. Карр; пер. с англ. П. Миронов. - СПб.: Бест Бизнес Букс, 2012. - 356 с.
- Клочко, В.Е. Постнеклассическая трансспектива психологической науки / Е.В. Клочко // Вестник Томского гос. ун-та. - 2007. - № 305. - С. 157-164.
- Кобзова, М.П. О некоторых особенностях вербально-логического мышления в норме и при шизотипическом расстройстве (на примере методики «Четвертый лишний») / М.П. Кобзова, Н.В. Зверева, О.А. Щелокова // Клиническая и специальная психология. - 2018. - Т. 7, № 3. - С. 100-118. 10.17759/ cpse.2018070306
- DOI: 10.17759/cpse.2018070306
- Курбатов, В.И. Символическое, виртуальное, сетевое мышление: новая эпоха или эпоха новостей / В.И. Курбатов // Гуманитарий юга России. - 2013. - № 1. - С. 1-11.
- Павлова, Е.Д. Сознание в информационном пространстве / Е.Д. Павлова. - М.: Academia, 2007. - 688 с.
- Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике / С.Я. Рубинштейн. - М., 2010. - 384 с.
- Султанова, А.С. К проблеме нормативных показателей в патопсихологической диагностике / А.С. Султанова, И.А. Иванова // Клиническая и специальная психология. - 2017. - Т. 6, № 2. - С. 83-96.
- DOI: 10.17759/cpse.2017060207
- Соломоник, А.Б. Очерк общей семиотики: монография / А.Б. Соломоник. - Минск: МЕT, 2009. - 191 с.
- Тхостов, А.Ш. От тамагочи к виртуальному ошейнику: границы нейтральности технологий / А.Ш. Тхостов, В.А. Емелин // Психологические исследования: электрон. науч. журн. - 2010. - № 6(14). - С. 9.
- Холодная, М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - С. 119-127.
- Чередникова, Т.В. Информационная модель мышления Л.М. Веккера в исследованиях расстройств мышления при шизофрении методом факторного анализа / Т.В. Чередникова// Психологические исследования: электронный научный журнал. - 2011. - 3(17). - http:// psystudy.ru (дата обращения: 11.07.2018).
- Черниговская, Т.В. Лекция «Интернет, мозг и жидкий мир» / Т.В. Черниговская. - https://fictionbook.ru/author/t_v_chernigovskaya/ lekciya_internet_mozg_i_jidkiyi_mir
- Шпитцер, М. Антимозг: цифровые технологии и мозг / М. Шпитцер. - АСТ, 2014. - 288 с.
- Prensky, M. Digital natives, Digital immigrants / M. Prensky // On the Horizon. - 2001. - Vol. 9, No 5. - Р. 1-6.
- Tapscott D. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World / D. Tapscott. - McGraw-Hil, 2008. - 384 p.