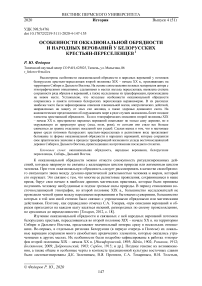Особенности окказиональной обрядности и народных верований у белорусских крестьян-переселенцев
Автор: Федоров Р.Ю.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Этнокультурные и демографические процессы
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены особенности окказиональной обрядности и народных верований у потомков белорусских крестьян-переселенцев второй половины XIX - начала ХХ в., проживающих на территории Сибири и Дальнего Востока. На основе сопоставления полевых материалов автора с этнографическими описаниями, сделанными в местах выхода переселенцев, выявлена степень сохранности ряда обрядов и верований, а также исследованы их трансформации, произошедшие на новом месте. Установлено, что исходные особенности окказиональной обрядности сохранились в памяти потомков белорусских переселенцев неравномерно. В их рассказах наиболее часто были зафиксированы описания плювиальной магии, апотропических действий, направленных на защиту от злых сил жилища, а также здоровья домашнего скота. На анимистические представления об окружающем мире в ряде случаев наложились более поздние элементы христианской обрядности. Если в этнографических описаниях второй половины XIX - начала ХХ в. пространство народных верований охватывает не только саму деревню, но и окружающую ее природную среду (леса, поля, реки), то сегодня оно стало все больше сжиматься до границ отдельных поселений или усадеб. Сделан вывод о том, что в настоящее время среди потомков белорусских крестьян-переселенцев в реликтовом виде продолжают бытование те формы окказиональной обрядности и народных верований, которые сохранили свое практическое значение в процессе трансформаций жизненного уклада восточнославянской деревни Сибири и Дальнего Востока, происходивших на протяжении последнего столетия.
Окказиональная обрядность, народные верования, белорусские переселенцы, сибирь, дальний восток
Короткий адрес: https://sciup.org/147246329
IDR: 147246329 | УДК: 398.5(476) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-147-155
Текст научной статьи Особенности окказиональной обрядности и народных верований у белорусских крестьян-переселенцев
К окказиональной обрядности можно отнести совокупность ритуализированных действий, которые напрямую не связаны с календарным циклом природы или жизненным циклом человека. При этом окказиональную обрядность следует рассматривать в качестве своеобразного связующего звена между духовно-практической деятельностью человека и миром, который его окружает. Это связано с тем, что многие ее реликтовые проявления, сохранившиеся в наше время, берут свое начало в наиболее древних магических практиках, которые были призваны подчинить человеку необузданные и подчас грозные силы природы. В период становления восточнославянской этнографии, во второй половине XIX в., большинство исследователей не проводили четкой грани между народными верованиями и бытовыми суевериями, большинство которых в той или иной степени было связано с упрощенными обрядовыми или магическими действиями. Поэтому, как справедливо отмечал С.А. Токарев, «при описании верований и обрядов приходится на каждом шагу касаться явлений, разнородных по своему происхождению, но сросшихся до неразделимости» [ Токарев , 2012, с. 18].
Изучение окказиональной обрядности и связанных с ней народных верований потомков белорусских крестьян, переселившихся во второй половине XIX – начале ХХ в. на территорию Сибири и Дальнего Востока, представляет значительный интерес сразу в нескольких отношениях. Во-первых, в отдельных регионах Белоруссии (в первую очередь в Полесье) их локальные вариации сохранили много самобытных архаических элементов, которые оказались утраченными в других местах. Их особенности были подробно зафиксированы в работах этнографов второй половины XIX – начала ХХ в. [ Никифоровский , 1895; Шейн , 1902; Романов , 1912; Богданович , 2009; Добровольский , 1903; Сербов , 1915; и др.]. Позднее генезис их возникновения, а также общие и особенные черты в контексте традиционной культуры восточных славян были систематизированы Д.К. Зелениным, В.Я. Проппом, С.А. Токаревым, Н.И. Толстым,
С.М. Толстой, Л.Н. Виноградовой, А.Ф. Журавлевым, А.Б. Островским, О.В. Лысенко и рядом других исследователей [ Зеленин , 1991; Пропп , 2009; Токарев , 2011; Толстая, 1986а, 19866, 2005 ; Толстой, Толстая , 1981; Толстой , 1995, 2003; Лысенко, Островский, 1990; Журавлев, 1994; Виноградова , 1995]. Учитывая то, что дошедшие до наших дней первые подробные этнографические описания по своей хронологии совпадают с массовыми крестьянскими переселениями из Белоруссии, мы имеем достаточно полное представление об исходных прототипах окказиональной обрядности и связанных с ней народных верований, которые были привнесены переселенцами на территорию Сибири и Дальнего Востока. Подвергая сравнению эти описания с современными этнографическими материалами, мы имеем возможность выявить степень сохранности тех или иных обрядов, а также проследить их трансформации, произошедшие на новом месте.
На сегодняшний день окказиональная обрядность и народные верования белорусских крестьян-переселенцев остаются недостаточно изученными. В современных публикациях они чаще всего фигурируют лишь в качестве дополнений к описаниям их календарной и семейнобытовой обрядности [ Фетисова , 2002; Любимова , 2004, Золотова , 2017; и др.]. Исключение из этого составляют посвященные данной теме публикации Е.Ф. Фурсовой и О.В. Голубковой [ Фурсова , 2011, 2013; Голубкова , 2009, 2016, 2018]. Отдельные примеры окказиональной обрядности и народных верований белорусских переселенцев на территории Пермского края были рассмотрены в монографии А.В. Черных, Т.Г. Голевой, М.С. Каменских и С.А. Шевырина [ Черных , 2013]. Несмотря на это, многие регионы Сибири и Дальнего Востока, на территории которых сложились места компактного проживания белорусских переселенцев, остаются не охваченными исследованиями, посвященными указанной теме.
Эмпирической базой настоящей статьи послужили полевые материалы, собранные автором с 2009 по 2019 г. в местах компактного проживания потомков белорусских крестьян-переселенцев, на территории Тюменской и Иркутской областей, а также Красноярского, Хабаровского и Приморского края. Большинство опрошенных информантов были рождены с 1910-х по 1950-е гг. и являются представителями второго и третьего поколений переселенцев. Основная задача полевых исследований заключалось в выявлении наиболее стойких элементов окказиональной обрядности и связанных с ними народных верований, а также в анализе этнокультурных и социальных факторов, оказавших влияние на их трансформации, с использованием сравнительно-исторического метода. Учитывая невозможность в рамках одной статьи сделать обзор всего многообразия проявлений окказиональной обрядности и народных верований белорусских переселенцев, мы сосредоточили внимание на тех, что лучше всего сохранились в народной памяти. К ним относятся проявления окказиональной обрядности, имеющие отношение к земледелию и животноводству, а также обряды и верования, связанные с пространством крестьянской усадьбы, окружающей деревню природной средой и действиями, совершаемыми по обету.
Обряды, связанные с земледелием. В зафиксированных нами рассказах потомков белорусских переселенцев об окказиональной обрядности, связанной с земледелием, центральное место отведено различным вариациям плювиальной магии. Н.И. Толстой и С.М. Толстая отмечали, что на территории Полесья существовало множество форм языческого обряда вызывания дождя, «общий набор которых в силу своей относительной полноты может послужить основой для сравнительно-исторических и сравнительно-типологических исследований в пределах славянского этнического континуума» [ Толстой, 2003, с. 90]. На территории Сибири и Дальнего Востока плювиальная магия белорусских крестьян-переселенцев сохранила высокую степень вариативности. В ходе полевых исследований нами было зафиксировано большинство ритуалов вызывания дождя, выявленных на территории Полесья И.Н. Толстым [ Толстой , 1995, с. 79-80].
Пример обыдённых действий был зафиксирован нами в д. Осиновка Викуловского района Тюменской области, в которой проживают потомки переселенцев из Могилевской губернии (современный Будо-Кошелевский район Гомельской области). В этой деревне во время засухи женщины собирались в чьей-нибудь избе и за один день ткали изо льна полотно, длина которого, как правило, составляла не менее трех метров. Местные жители называли это полотно «обу-дённик». В соответствии с первым и наиболее подробным описанием, сделанным со слов жите- лей деревни Г.А. Крамором, «на том конце деревни, где начинаются хлебные посевы, ставят стол, на него – иконы из каждого дома, а также хлеб-соль. Начинается молебен. Затем икона, обернутая обудёнником, вручается мужчинам, позади идут дети, держа концы полотенца подобно шлейфу королевской мантии, далее – остальные жители со своими образами. Таким вот крестным ходом, с пением "Святый Миколе, моли Бога о нас" и "Пресвятая Богородице, спаси нас" обходят на раз деревню. Вернувшись к отправной точке, снова особо молятся, кропят березовым веником посевы, а обудённик бросают в речку и топят в ней, как своего рода жертву» [Крамор, 2003, с. 99–100]. Подобный обряд на территории Борисовского уезда Минской губернии был описан в конце XIX в. П.В. Шейном. В его описании сотканный за один день холст изо льна назывался «обыденок». В отличие от варианта, зафиксированного в Сибири, в этом случае сотканный холст жертвовался в местную церковь [Шейн, 1902, с. 294–295]. Примечательно, что в Осиновке такой обряд мог совмещаться с отдельно выделенным С.М. Толстой и И.Н. Толстым ритуалом убиения лягушки [Толстая, 1986б, с. 22–23], который имел на территории Сибири широкое распространение в среде переселенцев из Полесья.
Другая группа обрядов вызывания дождя была связана с ритуальными действиями на кладбище. В д. Марининск Заларинского района Иркутской области для того, чтобы вызвать дождь, три вдовы должны были прочитать на кладбище молитвы. Белорусские переселенцы, проживавшие на территории Тайшетского района Иркутской области, ходили на кладбище и поливали водой могилы предков, прося у них дождя, «чтобы прокормить семью». Другой вариант этого обряда был зафиксирован нами в д. Тигино Большемуртинского района Красноярского края. В соответствии с ним, для того чтобы вызвать дождь, было необходимо полить водой могилы удавленников. Эти традиции можно отнести к отголоскам архаических обрядов, связанных с культами предков и заложных покойников и в той или иной степени свойственных всем восточным славянам. На это, в частности, указывает описанный Д.К. Зелениным пример поливания великороссами свежих могил с целью предотвратить летнюю засуху [ Зеленин , 1991, с. 350].
Для вызывания дождя белорусы часто совершали ритуалы у колодцев или источников [ Толстой, Толстая, 1981]. В д. Черчет Тайшетского района Иркутской области существовал обычай обойти шесть колодцев и насыпать в них мак, чтобы пошел дождь. Похожий обычай был зафиксирован П.В. Шейном на территории Гродненской губернии, однако в его описании количество колодцев не уточнялось [ Шейн , 1902, с. 295]. Жители д. Карай Братского района Иркутской области для того, чтобы вызвать дождь, читали молитвы около почитаемого в деревне источника.
В д. Вакорино Казанского района Тюменской области и ряде других деревень белорусских переселенцев старейшие жительницы три раза обходили деревню со взятыми из дома иконами, читая различные молитвы. Подобные более поздние традиции, в которых архаические проявления плювиальной магии уступают место христианской обрядности, имели широкое распространение не только у белорусов, но и у русского старожильческого населения Сибири [ Любимова , 1997].
Обряды, связанные с домашним скотом. А.Ф. Журавлев относит к сфере окказиональной обрядности продуцирующую магию, связанную с приплодом домашнего скота, а также специфические обрядовые действия, совершаемые во время его купли-продажи, пропажи, эпизоотий и т.д. [ Журавлев , 1994, с. 8].
В большинстве обследованных деревень сохранились разнообразные суеверия, связанные с отъемом коровьего молока. При этом, как отмечал С.А. Токарев, у белорусов и украинцев были широко распространены поверья, в соответствии с которыми ведьмы могли отнять молоко у чужой коровы и передать его своей [ Токарев , 2011, с. 28]. Чаще всего эти действия совершались на Купалу, однако во многих деревнях они могли произойти в любой другой день. Для того чтобы отнять молоко, ведьмы похлопывали рукой чужую корову, проходя мимо нее на улице. Подобные суеверия часто фиксировались в местах выхода переселенцев [ Шейн , 1902, с. 264].
В народной бытовой практике существовал ряд магических способов защиты коров от подобных действий. Для этого около хлева раскладывали скошенную крапиву, ставили внутри него грамничную свечу, вешали на дверь серп или наточенную косу и т.д. Будучи потомком белорусских переселенцев, проживающая в с. Полетное муниципального района им. Лазо Хабаровского края рассказывала: «У меня была корова, идет по деревне, вымя вот такое, и молоко сеет. Все говорили: "Ой, какая корова!" Ее, наверно, сглазили, и она начала болеть. Мне тогда один дедушка посоветовал найти в заборе доску, где есть дырочка от сучка, и прибить ее в сарае либо сверху, либо снизу у его входа, чтобы корова через нее ходила. Корову я подоила, и последние капли постаралась пропустить через эту дырку в доске. Мы сверху прибили эту доску. После этого корова стала меньше болеть» (ПМА–2014, с. Полетное муниципального района им. Лазо Хабаровского края). По рассказам жителей д. Черчет, в престольные праздники (особенно на Благовещенье) никому из соседей нельзя было давать молока. В д. Тигино, если соседи приходили в дом за молоком, надо было бросить на стол щепотку соли и брызнуть на нее каплю молока. В тот день, когда корова отелилась, было принято не отдавать никому вещи из своего дома. Этот обычай объясняли тем, что если чужой человек вынесет из дома какие-нибудь предметы, теленок останется голодным. Когда у местных жителей кто-нибудь покупал скотину, ему нельзя было отдавать веревку, потому что считалось, что ею он уведет со двора всю оставшуюся живность. Похожие суеверия имели широкое распространение на территории Белоруссии [ Шейн , 1902, с. 227]. Жители не существующей ныне д. Темная Речка Нижнетав-динского района Тюменской области, когда продавали поросят, выстригали у них клок шерсти и оставляли его в гнезде, чтобы у свиней родилось больше нового потомства. Для того чтобы корова не заблудилась, перед первым выгоном ее хлестали пасхальной вербой. Во многих деревнях проживали пожилые женщины, обладавшие магическим даром находить заблудившуюся корову.
В среде потомков белорусских переселенцев часто рассказывали о перевоплощении ведьм и колдунов в животных. К примеру, на Купалу ведьмы могли превращаться в свиней. Нередко подобные превращения не были привязаны к конкретным календарным датам. Эту ситуацию иллюстрируют рассказы жителей д. Еловка Викуловского района Тюменской области: «У нас дед был, ой колдовал. Обзывали его Трух. Перед тем, как он памер он сказал, чтобы его вынесли в окно головой впярод. Потом делался котом и всю посуду бил. А потом дети приехали из Викулово, кол осиновый вбили. Не стал больше вылазить. Раньше обращались и в козлят. Дед наш ехал, ляжит козленочек на дороге. Поклал в повозку. Глядит, конь в пене, на ноги пал. Взял, скинул козленка, он соскочил, человеческим голосом засмеялся, и пабег» (ПМА–2017, д. Еловка Викуловского района Тюменской области).
Обряды и народные верования, связанные с пространством крестьянской усадьбы. В памяти потомков белорусских переселенцев хорошо сохранились обряды, защищавшие дом от пожара и грозы. В д. Ермаки Викуловского района Тюменской области бытовал обычай, согласно которому в случае пожара, когда к дому приближался огонь, необходимо было бросить в противоположную ему сторону пасхальное яйцо. Считалось, что от пожара дом также охраняет пасхальная верба, которую ставили в красном углу. Многие белорусские переселенцы были убеждены в том, что грамничные свечи, освященные на Сретенье, защищают дом от пожара и попадания молнии. Во второй половине XIX в. подобные обычаи фиксировались на территории Белоруссии [ Романов , 1912, с. 302; Зеленин , 1991, с. 402].
У переселенцев из Полесья сохранилось характерное для их предков признание сосуществования антропоморфных и зооморфных образов домового [Виноградова, 1995, с. 142]. В качестве основных мест предполагаемого обитания домового чаще всего называлось место у печи или подполье. Туда клали веник, мочальное помело или небольшой коврик. Существовало поверье, в соответствии с которым при переезде в другой дом домового нужно было пригласить на новое место. Считалось, что новый дом нельзя строить на месте сгоревшего или разрушенного, потому что там остался жить прежний домовой, который будет драться с новым, поэтому мира и порядка в новом доме не будет (ПМА–2014, с. Полетное муниципального района им. Лазо Хабаровского края). У переселенцев сохранились и обычаи, связанные с банниками (лазь-никами). Согласно им в баню нельзя было заходить после полуночи, потому что в это время в ней моется банник. У белорусов, как и у русских старожилов получил распространение обычай оставлять для банника кусок мыла. На этом фоне у потомков белорусских переселенцев значительно реже фиксировались рассказы об овинниках, хлевниках и других мифологических хозяевах приусадебных построек. Эту ситуацию можно объяснить тем, что в большинстве обследованных нами крестьянских усадеб после коллективизации стало содержаться меньше домашнего скота, а также перестали хранить обширные запасы зерна и других продуктов.
Обряды и народные верования, связанные с окружающей природной средой. По сравнению с историями о домовых и банниках рассказы о полевых (полевиках) в среде потомков белорусских переселенцев встречаются значительно реже. Жители д. Черчет отождествляли полевых с миражами: «Одна женщина рассказывала: иду на покос через поля. Вижу издалека, едут люди, пыль поднялась. Вижу пыль, вижу лошадь, вижу седоков, которые сидят в телеге. Едут ближе, ближе, ближе и раз - растворились прямо на глазах. Бабушка говорит - это полевой, такой же хозяин полей, как в доме домовой» (ПМА–2018, д. Черчет Тайшетского района Иркутской области). В этой же деревне нами был зафиксирован еще один рассказ о полевом: «Есть у нас место между деревнями Черчет, Черганчет и Трёмино. От Черганчета до Трёмино тянется болото. И вот, в том месте постоянно бывают явления людям. Мужчина на лошади, запряженной в санях, бичом машет и проносится. Это видение разным людям на этом месте повторялось много раз» (ПМА-2018, д. Черчет Тайшетского района Иркутской области).
В отличие от значительной части русских старожилов Сибири, отрицавших существование русалок, у белорусских переселенцев связанные с ними суеверия на протяжении долгого времени сохранли устойчивость. Большинство людей считали, что русалками становятся умершие некрещеные дети или девушки-утопленницы. Это указывает на возможное родство верований, связанных с русалками, с культом заложных покойников [ Зеленин , 1991, с. 418]. При этом у белорусов встречи с русалками могли происходить не только у водоемов, но и в полях. Описание информантами внешнего вида русалок разнится. Многие опрошенные нами потомки переселенцев затруднялись это сделать, так как слышали рассказы о русалках лишь от старших членов их семей. Е.Ф. Фурсова и О.В. Голубкова, опираясь на полевые материалы, собранные на территории Западной Сибири, отмечают преобладание в описаниях внешности русалок севернорусских и полесских традиций [ Фурсова , 2011, с. 214; Голубкова , 2016, с. 146]. В соответствии с ними русалки чаще всего имели отталкивающие черты внешности, представали перед людьми в виде косматых женщин с длинными ногтями и в других демонизированных обличьях. В то же время в среде выходцев с белорусско-украинского пограничья, проживающих на территории Приморского и Хабаровского края, нами фиксировались описания русалок, близкие к южнорусским традициям, согласно которым их внешность могла иметь более привлекательные черты. Чаще всего русалки активизировались в «русальную неделю», приуроченную к Троице, и ночью перед Купала. Как правило, русалкам приписывались вредоносные качества: они могли утопить встретившегося им человека в водоеме или защекотать его до смерти.
Обряды и народные верования, связанные с обетами. На территории Белоруссии широкое распространение имели окказиональные обрядовые действия, совершаемые по обету. Чаще всего обеты брались в случае неурожаев, болезней или стихийных бедствий. Отголоски этих традиций сохранились у потомков белорусских переселенцев, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке.
В Полесье по различным обетам часто изготавливали общинные или мирские свечи [ Шейн, 1902, с. 176]. В соответствии с этой традицией жители деревни жертвовали воск для большой свечи, которая на протяжении года хранилась в доме одного из местных жителей. В настоящее время сведения о братских свечах практически исчезли из памяти потомков бело- русских переселенцев, живущих на территории Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на это, в д. Осиновка Викуловского района Тюменской области сохранился обряд почитания иконы «Свеча», в генезисе которого явно прослеживаются традиции «заведения» братских свечей с патронажной иконой, привнесенные из мест выхода переселенцев [Лобачевская, Федоров, 2012].
Кроме того, белорусские переселенцы ткали в качестве своеобразного обета обыдённые полотна в случае эпидемий или других бедствий, угрожавших жителям деревни. Как и у других восточных славян, у белорусов была распространена практика установки обетных крестов. Крест мог ставиться как по инициативе всей сельской общины, так и по обету одного человека. В д. Черчет нами был зафиксирован следующий рассказ: «На перекрестке дорог супружеская пара, у которой не было детей, поставила обетный крест. После этого у них начали рождаться дети. Постепенно этот крест стал почитаемым у местных жителей. Когда началась война, мимо этого креста вели призванных на нее жителей села. Один из них подбежал к кресту, встал перед ним на колени и помолился. Остальные прошли мимо, смеясь над ним. С войны вернулся один лишь этот человек» (ПМА–2018, д. Черчет Тайшетского района Иркутской области).
Выводы
В рассказах об окказиональной обрядности и связанных с ней народных верованиях, которые сохранились у потомков белорусских крестьян-переселенцев, бросается в глаза наслоение влияний разных этапов формирования духовной культуры восточных славян. В них можно часто встретить элементы анимистических представлений об окружающем мире, а также актуализацию культа предков и различных культов природных стихий. На эти архаические основы во многих случаях накладываются более поздние элементы обрядности, имеющие христианское происхождение.
Имея общеславянские черты, народные верования выходцев из Белоруссии долгое время сохраняли многие особенности, привнесенные из мест выхода. При этом в памяти потомков переселенцев они сохранились неравномерно. В рассказах наиболее часто встречались описания плювиальной магии, апотропических действий, направленных на защиту от злых сил жилища, а также здоровья домашнего скота. Бросается в глаза и изменение акцентов в топосах сакрализации окружающего пространства. Если в этнографических материалах второй половины XIX – начала ХХ в. пространство окказиональной обрядности и суеверий охватывало не только деревню, но и окружающую ее природную среду (леса, поля, реки), то сегодня оно все больше сжимается до границ отдельных поселений или усадеб. На это указывают редко встречающиеся рассказы о традиционных земледельческих обрядах на полях, а также утрата значения многих суеверий, связанных с лешими, водяными, полевыми и другими мифическими существами, которые воспринимались в качестве покровителей окружавших деревню природных стихий, от которых зависел человек. Возникновение этой ситуации можно объяснить тем, что в советское время в связи с приданием общественного (колхозного или совхозного) статуса прилегающим к деревням угодиям постепенно стала снижаться степень их сакрализации в мировоззрении местных жителей. Эта тенденция начала еще более проявляться с 1990-х гг. Ввиду сокращения мужского населения многих деревень и уменьшения роли охоты и рыбалки в жизнеобеспечении их населения местные жители все меньше стали посещать и использовать в хозяйственных целях прилегающие к их деревням природные угодья. Тем не менее благодаря сохранению индивидуальных приусадебных хозяйств связанные с ними практики окказиональной обрядности и бытовых суеверий не утратили окончательно актуальности. Отток из сельской местности молодежи во многих случаях способствовал сохранению лишь тех народных верований, которые характерны для представителей старших поколений.
Начиная со второй половины ХХ в. в связи с все большей доступностью медицины и ветеринарии утратили былое значение многие магические и обрядовые практики, относящиеся к здоровью человека и домашнего скота. Несмотря на эту тенденцию, определенная потребность в них сохранилась. В период постсоветской архаизации общества наблюдалось даже некоторое возрождение интереса к подобным практикам, хотя к тому времени многие их аутентичные прототипы, привнесенных из мест выхода переселенцев, оказались забыты.
Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в среде потомков белорусских крестьян-переселенцев в реликтовом виде продолжают бытование те формы окказиональной обрядности и народных верований, которые сохранили свое практическое значение в процессе трансформаций жизненного уклада восточнославянской деревни Сибири и Дальнего Востока, происходивших на протяжении последнего столетия.
Список литературы Особенности окказиональной обрядности и народных верований у белорусских крестьян-переселенцев
- Богданович А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов: Этногр. очерк. М.: Слава!; Форт-Профи, 2009. 160 с.
- Виноградова Л.Н. Региональные особенности полесских поверий о домовом // Славянский и балканский фольклор. М.: Индрик, 1995. C. 142-152.
- Голубкова О.В. Душа и природа: Этнокультурные традиции славян и финно-угров / ИАЭТ СО РАН. Новосибирск: Б.и., 2009. 304 с.
- Голубкова О.В. Русалка в народных верованиях восточных славян Западной Сибири (перспективы картографирования локальных аспектов образа) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2016. № 2 (33). С. 144-152.
- Голубкова О.В. Невидимость как символ иномира в нарративах переселенцев из Полесья // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2018. Т. 24. С.398-400.