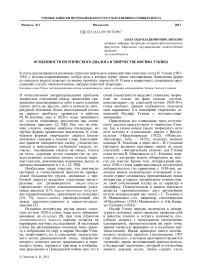Особенности поэтического диалога в творчестве Иосифа Уткина
Автор: Лычагин Александр Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (114), 2011 года.
Бесплатный доступ
Уткин, постреволюционная поэзия, ассоциативность, диалог, полемика, оппонирование, есенин, светлов, симонов
Короткий адрес: https://sciup.org/14749844
IDR: 14749844
Текст статьи Особенности поэтического диалога в творчестве Иосифа Уткина
В отечественном литературоведении проблема творческих отношений между писателями традиционно рассматривается либо в свете влияния одного поэта на другого, либо в контексте литературной полемики. Более многогранный взгляд на данную проблему проявился в работах М. М. Бахтина, еще в 1920-х годах заявившего об «узости понимания диалогизма как спора, полемики, пародии» [2; 300]. Все это, по мнению ученого, внешне наиболее очевидные, но грубые формы проявления диалогизма . К означенным формам творческого диалога Бахтин добавляет «доверие к чужому слову, благоговейное приятие (авторитетное слово), ученичество, поиски и вынуждение глубинного смысла, согласие... наслаивание смысла на смысл, голоса на голос, усиление путем слияния (но не отождествления), сочетание многих голосов (коридор голосов), дополняющее понимание, выход за пределы понимаемого и т. п.» [2; 300].
Необходимо также отметить, что лингвисты (которым в отечественной филологии принадлежит большинство трудов, связанных с проблемой диалога) выделяют следующие магистральные его разновидности: диалог - унисон (предполагает полное взаимопонимание участников диалога) [17], диалог - диссонанс (отсутствие взаимопонимания, ориентация на полемику) [10; 73], диалог - синтез (промежуточный тип между диалогом-унисоном и диалогом-диссонансом) [5].
Историки литературы, изучая диалог советских поэтов 1920-х годов, чаще всего обращают внимание на полемику [9], при этом стратегия синтетического диалога нередко остается на периферии научных исследований. В настоящей статье мы рассматриваем основные типы диалога с собратьями по перу в лирике Иосифа Уткина, талантливого, но, к сожалению, малоизученного поэта раннесоветской эпохи, творчество которого отличает синтез гражданского и лирического начал, героики и трагизма в изображении революции и Гражданской войны (все это в своей совокупности выделяет уткинское творчество не только на фоне плеяды «поэтов-комсомольцев», но советской поэзии 1920–30-х годов вообще). Данная особенность получила свое выражение и в специфике творческих отношений Иосифа Уткина с поэтами-современниками.
Практически все означенные типы поэтического диалога присутствуют в творчестве Уткина. Так, в самом начале своего творческого пути поэт вступал в «унисонный» диалог с Пролеткультом («Красноармеец» (1922), «Микула», «Богатырь» (оба – 1923)); испытал мощное влияние Н. Тихонова, а через него – Н. Гумилева (которого косвенно признавал одним из своих учителей). «Авторитетным словом» для Уткина стала поэзия В. Маяковского и С. Есенина, перекличку с которыми можно обнаружить во многих его текстах. Кроме того, литературный процесс 1920-х годов характеризовался достаточной либеральностью (по сравнению с 1930-ми), наличием живых полемических отношений: в молодой стране создавалась принципиально новая литература, и каждое литературное течение имело свой собственный взгляд на ее характер и специфику. Показательным в данном контексте является «противостояние» двух крупнейших поэтов интересующей нас эпохи – С. Есенина и В. Маяковского (см., например, стихотворения «Юбилейное» (1924) Маяковского и «На Кавказе» Есенина (1924)).
Иосиф Уткин нередко включался в литературную полемику своего времени, проявляя себя в качестве тонкого и острого полемиста, способного спорить с несколькими оппонентами одновременно, противопоставив им свою точку зрения (зачастую формируя ее в подобном противостоянии). Ярким примером такого полемического полилога является стихотворение 1927 года «Волосы», в котором противопоставляются «нежный» лирик, воспевающий девичьи волосы, и бескрылый «щеточник», который готов вообще лишить девушку волос, чтобы сделать столь нужную революции щетку. В данном случае Уткин подключается к полемике, имевшей место в 1927 году между В. Маяковским («Письмо к любимой Молчанова, брошенной им») и И. Молчановым («Свидание»). При этом собственная ут-кинская позиция формируется в споре и с Маяковским (в основном с его революционным утилитаризмом и аскетизмом), и с «нежным лириком» Молчановым (в большей степени, по справедливому замечанию А. Саакянц) [14; 54], с его искусственным, по мнению поэта, разъединением любви и революции. В итоге Уткин выдвигает свою точку зрения, сформулировав ее в виде двуединого credo, в котором декларирует органическое соединение любви и борьбы в лирике («А мне они – целью и знаменем. / Я знаменем сделать готов / И волосы черного пламени, / И пламя гражданских трудов!») [18; 91]. Попутно поэт возражает против наметившейся в литературе тенденции к «скрыванию» человеческих чувств, включаясь в полемику с «налитпостов-ской» критикой и ее установкой на отказ от личного чувства и самой личности поэта.
В 1920–30-е годы Уткин неоднократно активно полемизировал с Д. Бедным, А. Безыменским и другими поэтами-современниками. Однако в его творчестве присутствует не менее интересная разновидность поэтического диалога, сравнительно редко встречающаяся в поэзии 1920-х годов и предварительно обозначенная нами как оппонирование (термин оппонирование может также иметь второе значение, характеризующееся словом «противоположение»)1, которая по своей интенции сближается не с полемикой и спором , а с типом диалога, обозначенным М. М. Бахтиным как «дополняющее понимание». Данный тип творческого диалога представляет собой отклик одного поэта на стихотворение другого, противоположение своего взгляда на определенную тему (явление, событие) без отрицания точки зрения оппонента и предполагает взаимодополнение2, обретая формальное выражение в ассоциативном плане сюжета (солидаризируясь с И. О. Шайтановым, мы противопоставляем термин « ассоциативность » термину « интертекстуальность ») [20]. Ассоциативность в поэзии Уткина чаще всего проявляется на уровне сюжетно-композиционных сближений, явных или скрытых цитат, реминисценций, аллюзий, сознательных стилизаций и вариаций, ритмических перекличек и т. д.
Именно оппонированию мы уделяем в своей статье особое внимание, поскольку данная диалогическая стратегия, несмотря на сравнительно малое распространение в русской советской поэзии 1920–30-х годов, является в уткинском творчестве доминирующей и встречается в большинстве «программных» текстов поэта.
Так, стихотворение Уткина «Рассказ солдата» (1924) является откликом на знаменитое «Письмо матери» (1924) С. Есенина. Стихотворный размер «Рассказа…» идентичен разме- ру «Письма…», несомненна и перекличка лирических сюжетов: у Уткина, как и у Есенина, мать ждет сына, некогда покинувшего дом, и сын обещает вернуться. Поскольку литературный процесс 1920-х годов проходил в атмосфере ожесточенной литературной борьбы, отклик одного поэта на произведение представителя противоположного поэтического лагеря настраивал горизонт ожидания читателя на полемику, на характерное для духа времени противостояние. Традиционно полемика представляет собой столкновение двух принципиально противоположных точек зрения. Как было отмечено в специальной литературе [13], [21], [22], основная черта полемики как стратегии – отрицание точки зрения оппонента, «стремление одержать победу над противником, отстоять и утвердить собственную позицию» [8; 166]. В «Рассказе…» мы не найдем утверждения поэтом своей точки зрения за счет отрицания точки зрения Сергея Есенина. Уткин противополагает свою Россию есенинской, но не как противник – противнику: ему важно показать, что судьбы сыновей и двух матерей одинаково нелегки и трагичны.
Через ассоциацию с есенинским текстом И. Уткин выходит на традиционный сюжет возвращения блудного сына. По мнению О. Е. Вороновой, «в есенинском “мифе возвращения” образ великодушного отца замещен… образом всепрощающей матери, более органичном и биографи-чески-оправданном для поэтической “родословной” автора» [4; 20]. «Блудный сын» Есенина – человек с разорванным сознанием, находящийся на распутье, в своеобразном «промежутке» между верой в идеальную Россию и сомнением, что эта Россия возможна; он мечется, не в силах самоопределиться, найти свое место в новой эпохе. Герой «Рассказа…» это место обрел, в чем заключена не меньшая трагедия. «Блудный сын» Уткина, твердо выбравший свой путь («Только я другой был думой занят – / по тайге дорога шла моя») [18; 51], обещает вернуться не к матери, а к ее могиле – следовательно, в отличие от героя евангельской притчи и героя есенинского «Письма…», он заведомо лишен материнского прощения. Данный мотив звучит и в другом уткин-ском стихотворении – «Песня о матери» (1924), в котором мать не принимает сына, вернувшегося с Гражданской войны, осуждает его, и в результате происходит трагический разлад в сознании героя, вызванный столкновением его нового «революционного гуманизма» и традиционного, христианского гуманизма матери. Смерть матери в круговороте Гражданской войны в «Рассказе солдата» становится зерном трагедии новой России, представителем которой является уткинский герой, с одной стороны, «рожденный революцией», но с другой – «пришедший к революции с психикой прошлого» [1], как отмечает поэт в одном из интервью.
Таким образом, поэты с различным мировоззрением и опытом, находящиеся в разных по- этических лагерях, своеобразно дополняют друг друга, создавая цельную картину революционной эпохи, по-своему раскрывая драму самоопределения в ней своих героев. С одной стороны, – трагическая разорванность сознания человека, который кровно связан с прошлым и не может найти своего места в новом мире, порожденном революцией. С другой стороны, – болезненный разрыв кровной связи человека революции со своими корнями. Реконструкция и анализ ассоциативного сюжета «Рассказа солдата» дает возможность увидеть, прочувствовать как трагедию «Руси уходящей», так и трагедию рождающейся «Руси советской» и, следовательно, позволяет лучше понять драматизм эпохи.
Ассоциативный план сюжета более позднего уткинского стихотворения «Маруся (Партизанская песня)» (1936) составляет знаменитое стихотворение М. Светлова «Песня о Каховке» (1935). Произведения Уткина и Светлова написаны одним и тем же размером (3–4-стопным амфибрахием), имеют равное количество строф (6) и даже рефренов (2). Лирический герой Уткина, как и светловский, вспоминает боевую молодость. При этом, если в первом четверостишии Светлов говорит о Каховке, Орле, Иркутске и Варшаве как «этапах большого пути» к победе революции, то у И. Уткина, начиная уже с названия и первых строк, возникает образ зеленоглазой Маруси, девушки-друга, любимой, боевого товарища, являющийся смысловой доминантой уткинского текста. Неслучайно автор повторяет первую строфу рефреном в конце стихотворения, тем самым замыкая кольцевую композицию. Потеря героем любимой передает трагизм Гражданской войны, ее противоестественность – с одной стороны, но и необходимость – с другой, поскольку и он, и его любимая сражались за счастье своего народа, как они это счастье понимали. У М. Светлова также возникает образ «девушки нашей», чьи голубые глаза улыбаются герою сквозь дым, но он лишен индивидуализации и лирической интимности («наша»), является лишь светлым напоминанием о боевой юности. Основной мотив «Песни о Каховке» звучит рефреном в третьей и шестой строфах: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд / Стоит на запасном пути» [15; Т. 1, 368].
В предпоследней строфе «Каховки» светловский герой вспоминает боевую юность, улицу, где жила девушка, произносит своеобразную здравицу:
Так вспомним же юность свою боевую,
Так выпьем за наши дела,
За нашу страну, за Каховку родную,
Где девушка наша жила… [15; Т. 1, 368]
В предпоследней строфе «Маруси», напротив, звучит не возвышенно-патетическая, а пронзительная лирическая нота:
Я помню тот вечер, я помню то место,
Как тихо сказала она:
«Мы вместе играли, мы выросли вместе, Но я умираю… одна» [18; 171].
Таким образом, в «Песне о Каховке» – романтический образ дружбы, скрепленной огнем и кровью (характерный для лирики 1920-х годов мотив братства). У Уткина же – трагический образ любви, огнем и кровью уничтоженной. В данном случае мы тоже имеем дело именно с оппонированием . Иосиф Уткин, не отвергая мысли о том, что война за правое дело способствует сплочению людей, укрепляет дружбу (см. стихотворение 1926 года «Гитара»), дополняет Светлова, говоря о разлучающей и разрушительной ее стороне.
В годы Великой Отечественной войны были реабилитированы и получили право на существование в поэзии многие темы, находившиеся в 1930-е годы в маргинальном положении, в частности темы драматической любви и смерти. Особой популярностью пользовалось стихотворение К. Симонова «Жди меня», опубликованное в 11–12-м номерах журнала «Новый мир» за 1941 год, поскольку в нем воплотилась одна из главных потребностей людей на войне – потребность в любви и человеческой верности.
Буквально через несколько месяцев 15 марта 1942 года в газете «Правда Востока» появилось стихотворение Иосифа Уткина «Если будешь ранен, милый, на войне…», ставшее своеобразным откликом на симоновское «Жди меня» и содержащее высокую степень обобщения: оно как будто обращено от имени всех солдат ко всем женщинам в тылу. В центре уткинского стихотворения – обобщенный образ тех, кто ждет. В первой строфе героиня уверяет возлюбленного: несмотря ни на что, она будет ждать, будет верной, терпеливой и стойкой, так как любовь не способна затушить даже война, являющаяся только испытанием истинного чувства. Здесь заключен своеобразный ответ и симоновскому герою. Уткин расширяет пафосный спектр темы, отказывается от намеренной идеализации военного быта и бесстрашно вводит в поток сознания героини мотив возможной измены, которую она готова простить солдату3. В заключительной же строфе берет верх гражданский пафос («Но в письме не вздумай заикнуться мне / О другой измене – клятве на войне…») [18; 216]: так любовь и патриотическое чувство сливаются в единое целое. Подобное соединение было характерно для поэзии периода Великой Отечественной войны: тема любви часто была одним из подходов к теме верности родине.
Иосиф Уткин не полемизирует с Симоновым, не опровергает основную мысль «Жди меня». В стихотворении 1943 года «Ты пишешь письмо мне…» поэт также скажет о значении в жизни солдата любви и верности:
…Давно мы из дома.
Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома – и в дыме войны! [18; 233]
Для Уткина и его героини несомненным является то, что на войне важна не только человеческая верность, но и верность своей стране. Стихотворение «Если будешь ранен, милый, на войне…» дополняет симоновское «Жди меня», освещая тему любви и верности с другой стороны, что позволяет нам вновь говорить об оппонировании как особой форме творческой переклички, постепенно ставшей в поэзии Уткина доминирующей и приближающей его творческую стратегию взаимоотношений с собратьями по перу не к диссонансному (полемика), а к синтетическому диалогу («дополняющее понимание»).
Данная диалогическая стратегия представляется нам уникальной в контексте литературного процесса как 1920-х, так и 1930-х годов. Во-первых, для поэзии первого послеоктябрьского десятилетия был характерен «дух противостояния», а литературная борьба порой доходила до самых крайних форм. Однако Уткин, оппонируя, стремился не к утверждению своей точки зрения за счет развенчания точки зрения оппонента, а к пониманию, осмыслению и дополнению чужой творческой позиции. Во-вторых, несмотря на явную тенденцию к сворачиванию полифонии, имевшую место в 1930–50-е годы, в литературном метаконтексте советской эпохи, как выясняется, присутствовали различные формы духовного противостояния писателей мономорфной культуре, навязываемой советской властью. Оппонирование как особый тип творческой переклички между поэтами-современниками, по нашему мнению, представляет собой одну из интересных стратегий актуализации полифонизма внутри единого поэтического текста. Этот тип творческого взаимодействия может быть идентифицирован как художественный вызов моно-логизму литературы сталинской эпохи [3], [7], [6], как одна из эффективных форм противостояния «веку-волкодаву» (О. Мандельштам) – «противостояния в слове» [11; 36].
Список литературы Особенности поэтического диалога в творчестве Иосифа Уткина
- РГАЛИ. Ф. 1717. Оп. 1. Ед. хр. 129. Л. 57.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 424 с.
- Белая Г. А. Дон Кихоты революции -опыт побед и поражений. М.: РГГУ, 2004. 623 с.
- Воронова О. Е. Библейские образы в поэзии С. Есенина//Актуальные проблемы современного литературоведения. М., 1997. С. 17-20.
- Галкина -Федорук Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке//Сборник статей по языкознанию: Профессору Московского университета акад. В. В. Виноградову. М.: Изд-во Московского университета, 1958. С. 103-124.
- Голубков М. М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции советской литературы. 20-30 е годы. М.: Наследие, 1992. 202 с.
- Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Гуманитарное Агентство «Академический Проект», 1999. 558 с.
- Иванов Л. Ю. Дискуссия//Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 166-167.
- Кацис Л. Ф. Владимир Маяковский: Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М.: РГГУ, 2004. 830 с.
- Колокольцева Т. Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград: Изд-во Волгоградского госуниверситета, 2001. 260 с.
- Крылов В. П. Проблемы углубленного изучения литературы в 11 гуманитарном классе средней школы. Петрозаводск: КГПУ, 1999. 107 с.
- Латинско-русский словарь/Под. ред. И. Х. Дворецкого. М.: Русский язык, 2000. 846 с.
- Павлова Л. Г. Спор, дискуссия, полемика. М.: Просвещение, 1991. 127 с.
- Саакянц А. А. Иосиф Уткин. Очерк жизни и творчества. М.: Советский писатель, 1969. 162 с.
- Светлов М. А. Собрание сочинений: В 3 т. М.: Художественная литература, 1974.
- Симонов К. М. Собрание сочинений: В 10 т. М.: Художественная литература, 1979-1985.
- Соловьева А. К. О некоторых общих вопросах диалога//Вопросы языкознания. 1965. № 6. С. 103-110.
- Уткин И. П. Стихотворения и поэмы/Библиотека поэта: Большая серия. М.; Л.: Советский писатель, 1966. 384 с.
- Фридлендер Г. М. Поэтический диалог Пушкина с П. А. Вяземским//Пушкин: Исследования и материалы. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. Т. 11. С. 164-173.
- Шайтанов И. О. «Лодейников»: ассоциативный план сюжета//Вопросы литературы. 2003. № 6. С. 168-181.
- Шенберг В. А. Полемика как способ духовного противоборства. Л.: Знание, 1991. 32 с.
- Шестерина А. М. Полемика как явление культуры: генезис и традиции //Научно-культурологический журнал. //Relga. 2004. № 6 (96). 21 июля [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rodchenko.ru/files/doc/ANNA_SHESTERINA.doc