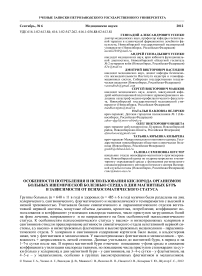Особенности потребления и использования кислорода организмом больных ишемической болезнью сердца в дни магнитных бурь в зависимости от психосоматического статуса
Автор: Усенко Геннадий Александрович, Усенко Андрей Геннадьевич, Васендин Дмитрий Викторович, Машков Сергей Викторович, Величко Наталья Павловна, Нищета Олег Викторович, Козырева Татьяна Юрьевна, Шустер Галина Семеновна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Медицинские науки
Статья в выпуске: 6 (127), 2012 года.
Бесплатный доступ
Группы больных (n = 640 ± 11 в год) и здоровых (n = 485 ± 6 в год) мужчин были разделены на лиц холерического, сангвинического, флегматического и меланхолического темпераментов с высокой и низкой тревожностью. Учитывали баланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, минутные объемы дыхания, кровотока, потребление, коэффициент использования и коэффициент утилизации кислорода тканями, число приступов загрудинных болей на фоне лечения, направленного и не направленного на блок особенностей психосоматического статуса. К особенностям психосоматического статуса у высоко- и низкотревожных холериков и сангвиников отнесли превалирование активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, а у высоко- и низкотревожных флегматиков и высокотревожных меланхоликов - парасимпатического отдела. У холериков и сангвиников содержание кортизола было выше, а альдостерона ниже, чем у флегматиков и меланхоликов. У высокотревожных флегматиков и меланхоликов - тревожность + депрессивность легкой степени. Данные учитывали до магнитной бури, в период и на 1-7-е сутки после нее. В период магнитной бури отмечено повышение γ-фона среды и снижение коэффициента утилизации кислорода тканями, но повышение числа приступов стенокардии за сутки (только у холериков), в дни магнитной бури - у сангвиников, на 3-4-е сутки - у флегматиков, на 4-5-е - у меланхоликов, особенно в группах высокотревожных флегматиков и меланхоликов. Последние - группа риска тяжелого течения ишемической болезни сердца. Антиангинальная терапия с блоком особенностей психосоматического статуса существенно снизила число приступов и приблизила величину использования кислорода организмом и коэффициент утилизации кислорода тканями во все дни к таковым у здоровых лиц соответствующей тревожности и темперамента.
Ишемическая болезнь сердца, магнитные бури, гамма-фон, темперамент, утилизация кислорода
Короткий адрес: https://sciup.org/14751376
IDR: 14751376 | УДК: 616.1-02:613.84;
Текст научной статьи Особенности потребления и использования кислорода организмом больных ишемической болезнью сердца в дни магнитных бурь в зависимости от психосоматического статуса
Конец ХХ и начало ХХI века сопровождались высоким уровнем заболеваемости и смертности трудоспособного населения вследствие развития артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) [2], [8]. На течение АГ и ИБС влияют различные факторы как социального, так и природного генеза, включая изменение погодных факторов – солнечной (СА) и геомагнитной активности [4], [11], [12]. Фактор СА, влияющий на организм, неизвестен, однако геомагнитные возмущения (ГМВ), или магнитные бури (М-бури), сочетаются с изменениями артериальной гемодинамики, капиллярного кровотока, повышением активности свертывающей системы крови, перекисного окисления липидов, снижением сократительной способности миокарда [5], [15]. Существенные изменения в организме отмечены у высокотревожных (ВТ) лиц по сравнению с низкотревожными (НТ) [9]. Нельзя исключить, что у ВТ- и НТ-лиц имеются существенные различия в утилизации кислорода тканями.
Цель работы – изучить изменения минутного объема кровотока (МОК) и минутного объема дыхания (МОД), величину потребления (ПО2) и использования (КИО2) кислорода организмом мужчин, страдающих ИБС и АГ-I, до, в период и после ГМВ, в дни с различным уровнем гаммафона среды в зависимости от особенностей психосоматического статуса (ПCC) и лечения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с 2000 по 2010 год в амбулаторных условиях обследована группа мужчин, технических работников, в возрасте 44–62 лет (в среднем 54,2 ± 1,8 года), страдающих ИБС, стабильная стенокардия напряжения ФК-II, недостаточность кровообращения 0–1 HK0-1, и гипертонической болезнью I степени (ГБ-I), риск 3. Значения АД пациентов находились в пределах 140/90–159/99 мм рт. cт. В год обследовалось 640 ± 11 пациентов (43 ± 2 человека в день). Исходя из 4 разновидностей темперамента были выделены 8 групп: 4 высоко- и 4 низкотревожных. Наличие ИБС устанавливали по критериям, изложенным в Рекомендациях ВНОК («Профилактика, диагностика и лечение АГ») [10]. У 96 % обследуемых лиц отсутствовала патология, препятствующая трудовой деятельности. Средняя продолжительность ИБС и ГБ-I составила 8,6 ± 1,1 года. Контролем служили 456 ± 9 (в год) здоровых мужчин тех же цехов, совместимых по возрасту, месту жительства, профессии. Приверженность к лечению была ниже необходимой. В целях определения осо- бенностей психосоматического статуса изучали: 1) активность симпатического (SNS) и парасимпатического (PSNS) отделов вегетативной нервной системы (ВНС) по вегетативному индексу Керде (ВИК): частота сердечных сокращений (ЧСС) / диастолическое артериальное давление (ДАД) – 1; 2) минутный объем кровотока, который является интегральным показателем состояния артериальной гемодинамики: [(САД – ДАД) х ЧСС] : [(САД + ДАД) : 2] х 100 [4]; 3) содержание в сыворотке крови кортизола, инсулина и альдостерона радиоиммунным методом c использованием коммерческих реактивов фирмы «СEA-IRE-SORIN» (Франция, Италия). Данные о состоянии внешнего дыхания: частоте и глубине дыхания, минутном объеме дыхания, ПО2 и КИО2 получали в условиях базального обмена на оксиспирографе «МЕТАТЕСТ-2» (фирма «МЕДИКОР», Венгрия). Важным являлось определение различий в содержании кислорода в артериализованной венозной и чисто венозной крови. Для этого определяли напряжение кислорода в крови (рО2, мм рт. ст.) и насыщение (сатурацию) гемоглобина (Нв) кислородом (SaO2, %) с помощью анализатора газов крови «STAT PROFILE. pHOx» (Германия). При этом содержание Нв (г/л) определяли гемоглобинцианидным методом на приборе КФК-2 [7]. Содержание кислорода (О2) в крови СаО2 определяли по формуле: СаО2 = (1,34 х Нв х SaO2 / 100 + рО2) х 0,0031, где СаО2 – содержание кислорода в крови; 1,34 – константа Хюфнера; Нв – содержание гемоглобина в крови; SaO2 – насыщение Нв кислородом; рО2 – напряжение кислорода в крови; 0,0031 – коэффициент растворимости кислорода по Бунзену. Для получения артериализирован-ной венозной крови средний палец исследуемого человека (по его согласию) помещали в воду с температурой 50 оС на 3 минуты и забирали до 2 мл крови. Забор венозной крови производили из локтевой вены той же руки. После определения СаО2 вычисляли разницу содержания кислорода в артериализированной и чисто венозной крови и умножали на 100, то есть определяли долю кислорода, утилизированного тканями (%). В норме (чисто артериальная кровь) коэффициент утилизации кислорода тканями (КУКТ) колеблется в пределах от 30 до 40 %. Наши данные не вышли за границы физиологической нормы [14]. Выбранная методика была для всех одинаковой, что позволило сравнить данные о тканевой экстракции кислорода тканями у ВТ-и НТ-лиц с различным темпераментом. В целях определения эффективности лечения в группе учитывали долю (%) лиц, перенесших приступы стенокардии. Превалирующий темперамент – холерический (Х), сангвинический (С), флегматический (Ф) и меланхолический (М) определяли с использованием тестов Дж. Айзенка и А. Белова [13]. Темперамент определяли не менее 4–5 раз до лечения и далее 1 раз в 3 месяца. Величину реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревожности определяли по тесту Спил-бергера в модификации Ю. Л. Ханина [16] с той же частотой, что и темперамент. Уровень НТ не превысил 29,6 ± 1,5 балла, ВТ – 48,6 ± 1,5 балла. Уровень депрессивности определяли по методике [3], где от 20 до 50 баллов – состояние без депрессии, 51–59 баллов – состояние легкой депрессии неврогенного (ситуативного) генеза, 60–69 баллов – субдепрессивное состояние, от 70 баллов и выше – истинное депрессивное состояние. ВТ-лицам психоневрологи назначали анксиолитик (Ах) сибазон по 2,5 мг утром и на ночь. Из антидепрессантов (Ад) назначали ко-аксил по 12,5 мг утром и на ночь, избегая назначения трициклических Ад и Ах НТ-лицам и водителям. Лечение ИБС и АГ проводилось в рамках 6 групп препаратов, согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 254 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией» [9] и на основании коррекции особенностей ПСС: у ВТ/Х и С – превалирование SNS, у Ф и М – PSNS и более высокая активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС по альдостерону). В этой связи ВТ/Х и С-пациентам назначали нитросорбид по 10 мг х 4 раза/cут. + β-адреноблокатор (БАБ) + диуретик (Д) + Ах, для НТ – без Ах. Для ВТ/Ф и М-пациентов: нитросорбид по 10 мг х 4 раза/cут., ингибитор ан-гиотензинпревращающего фермента (иАПФ) + Д (верошпирон) + Ад, для НТ/Ф и М – без Ад. Все остальные больные с определившимся темпераментом и тревожностью принимали такие же препараты, назначаемые без целенаправленного купирования тревожности и депрессивности по темпераменту, а также активности отделов ВНС и РААС. Пациенты получали панангин и карди-омагнил (1 таб. х 1 раз/cут., утром), предуктал (по 20 мг 2–3 раза/cут.). Препараты, влияющие на обмен холестерина, принимали 10 % обследуемых, причем нерегулярно. Все исследования, в том числе определение мощности γ-фона места работы, осуществляли утром с 8.00 до 10.00, забор материала производился в это же время, натощак. Частота исследования мощности γ-фона среды составила 52 ± 2 измерения ежесуточно. Данные о состоянии СА, магнитных бурях и мощности γ-фона внешней среды (мкР/ч) по дням, месяцам и по годам с 2000 по 2010 год получали из лаборатории ионосферномагнитного прогнозирования ГУ «Новосибирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды». Для определения изменений в период М-бурь использовали метод наложенных эпох [5], где значения показателей учитывали за 7–2 (–7; –6; –5; –4; –3; –2; –1) суток до начала М-бури, в день бури (0) и в последующие от начала М-бури дни (+1; +2; +3; +4; +5; +6; +7). Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с использованием прикладных программ «Statistica 6.0» и непараметрического критерия t-Стьюдента. Достоверными считали различия при р < 0,05. Результаты представлены как М ± m, где M – среднестатистическое значение, m – стандартная ошибка от среднего. Выбор методик исследования обусловлен их наличием в практическом здравоохранении, они соответствуют требованиям Хельсинкской декларации лечения и обследования людей и были одобрены Комитетом по этике Новосибирского государственного медицинского университета от 20.11.2009, протокол № 18.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Подобные исследования ранее не проводились, и нами впервые было установлено, что положительные значения ВИК у ВТ/Х и ВТ/С свидетельствовали о превалировании тонуса SNS, а отрицательные у ВТ/Ф и М – о превалировании PSNS-отдела ВНС. У НТ/Х и С равновесность смещена в сторону симпатического, а НТ/Ф и М-лиц – парасимпатического отдела ВНС, хотя и в меньшей степени, чем у ВТ. Содержание кортизола у Х и С было выше, а альдостерона и инсулина ниже, чем у Ф и М (см. табл.). Указанные различия отнесены к психосоматическим особенностям (ПСО) пациентов, а назначение, с одной стороны, Ах + БАБ для ВТ/Х и С, с другой – иАПФ + Ад + верошпирон для ВТ/Ф и М основано на особенностях ПСС. На этом основании здесь и антиангинальная терапия, не связанная с блокадой особенностей ПСС, обозначена «ААТ», а с блоком особенностей ПСС как «ААТ + БлОПСС».
Исследование показало достоверное повышение мощности γ-фона среды за сутки (–1), в 1-е (0) и 2-е–3-и (+1; +2) сутки ГМВ. Далее отмечалось снижение до исходных значений, и только к +4–+5 суткам от начала М-бури она вновь достоверно возрастала (см. табл.). Таким образом, отмечены две волны подъема мощности γ-фона среды в границах установленной для данного региона нормы. Однако эти волны сочетались с достоверным изменением величины изучаемых показателей. Так, изменения МОК у Х/ВТ-лиц отмечены за сутки (–1) и в +1–+2 сутки ГМВ. К +3 суткам от начала M-бури МОК достоверно снижался до исходных значений. В группах С/ВТ-лиц достоверное повышение
МОК отмечено в день начала М-бури, а к исходным значениям он снижался на +5 сутки. В группах Ф/ВТ-лиц МОК достоверно возрастал на +2–+3, а в группах М/ВТ – лишь на +3–+4 от начала бури сутки. К исходным значениям у Ф/ВТ МОК снижался на +5, а в группах М/ВТ – на +7 сут. У Ф/ВТ в это время отмечалось снижение ВИК (тонуса PSNS) в среднем с –6 ± 0,4 до –1 ± 0,4, а у М/ВТ – до –1,5 ± 0,4. В группах пациентов, принимавших ААТ + БлОПСС, характер изменения МОК был такой же, как у пациентов, принимавших только ААТ. Однако во все дни исследования величина МОК у них была достоверно ниже, а к исходным значениям МОК снижался на 2 суток раньше, чем у пациентов, которым проводилась только ААТ. В группах НТ-пациентов рисунок изменения МОК был такой же, но величина МОК у них была на 0,75 ± 0,05 л достоверно ниже, чем у ВТ-лиц соответствующего темперамента. В группах здоровых ВТ- и НТ-мужчин изменения МОК были такие же, как указаны выше, но величина МОК у них была достоверно ниже в среднем на 0,76 ± 0,04 л, чем у больных соответствующего темперамента и тревожности. У НТ-пациентов, принимавших ААТ + БлОПСС, величина МОК была практически такой же, как у здоровых лиц соответствующего темперамента. Таким образом, у лиц с симпати-котонией (Х и С) увеличение МОК сочеталось с повышением напряженности магнитного поля (МП) Земли и γ -фона среды за сутки и в 1-й день М-бури, а у парасимпатотоников (Ф и М) – снижением напряженности МП Земли и повторным повышением мощности γ-фона среды. Выраженность реакции у ВТ-лиц оказалась выше, чем у НТ. Анализ оксиспирограмм показал, что в спокойные от ГМВ дни у Х/ВТ МОД варьировал в границах 10,7 ± 0,1 л, у С/ВТ – 11,1 ± 0,06 л, у Ф/ВТ – 11,5 ± 0,05 л, а у М/ВТ – 12,0 ± 0,05 л. В дни ГМВ МОД у всех лиц увеличивался в те же дни, что и МОК. У Х/ВТ-пациентов МОД достоверно увеличивался за сутки и в 1–2-е сутки М-бури, достигая 11,7 ± 0,05 и 12,5 ± 0,05 л соответственно. У С/ВТ пик повышения МОД пришелся на начало (0) и 1-й (+1) день М-бури: 11,7 ± 0,05 л и 12,5 ± 0,05 л соответственно. В группе Ф/ВТ-пациентов максимум увеличения МОД отмечен на +3–+4 сутки от начала ГМВ и составил 12,3 ± 0,05 и 12,6 ± 0,05 л, а у М/ВТ – на +4–+5 сутки: 13,5 ± 0,05 и 13,8 ± 0,05 л соответственно на фоне приема препаратов ААТ. Такой же характер изменения МОД был у пациентов, принимавших ААТ + БлОПСС, но величина МОД была достоверно на 1,0 ± 0,05 л ниже по сравнению с лицами соответствующего темперамента. В группах НТ-пациентов отмечена такая же динамика, но величина МОД у них была ниже, по сравнению с ВТ-пациентами, на 1,1 ± 0,04 л. У НТ-больных, принимавших ААТ + БлОПСС, МОД в указанные дни был достоверно ниже на
0,6 ± 0,05 л, чем у НТ-пациентов на фоне проведения только антиангинальной терапии. У ВТ-и НТ-пациентов во все дни исследования МОД приближался к таковому у здоровых лиц, если пациенты лечились по схеме ААТ + БлОПСС. У здоровых ВТ- и НТ-лиц рисунок изменений был такой же, как у пациентов, но во все дни исследования, а также в период ГМВ МОД был ниже, чем у пациентов, на 0,63 ± 0,05 л соответственно темпераменту. Известно, что повышение потребности в кислороде связано с повышением МОД и МОК [14]. Вероятно, увеличение МОД и МОК в период ГМВ является следствием изменившегося энергетического обеспечения организма на определенном уровне. Действительно, ПО2 у здоровых и пациентов повышалось и приходило к исходным значениям в те же дни, что МОК и МОД. На фоне проведения ААТ ПО2 у Х/ВТ в спокойные от ГМВ дни изменялся в пределах 268,2 ± 0,2 мл/ч. За сутки до М-бури и в 1-й ее день ПО2 увеличивалось до 278,2 ± 0,2 мл/ч. В группе С/ВТ величина ПО2 увеличивалась с 260,2 ± 0,2 мл/ч (в спокойные дни) до 272,3 ± 0,2 мл/ч в 1-й и 2-й дни ГМВ. У Ф/ВТ ПО2 был не выше 261,6 ± 0,2 мл/ч и ниже, чем у Х и С/ВТ, а у М/ВТ – 257, 2 ± 0,2 мл/ч. В дни увеличения МОК ПО2 достоверно также увеличивалось у Ф/ВТ до 271,3 ± 0,2 мл/ч, у М/ВТ – до 269,4 ± 0,2 мл/ч. У всех лиц снижение ПО2 до исходных значений происходило в те же дни, что и МОК. В группах ВТ-пациентов, принимавших ААТ + БлОПСС, динамика аналогичная, но величина ПО2 была достоверно ниже на 7,3 ± 0,2 мл/ч соответственно темпераменту. У НТ-пациентов паттерн изменений не отличался от ВТ, но величина ПО2 во все дни исследования была достоверно ниже по сравнению с таковой у ВТ-лиц на 10,0 ± 0,05 мл/ч. У НТ-пациентов на фоне ААТ + БлОПСС величина ПО2 была практически такой же, как у здоровых НТ-лиц соответствующего темперамента. Таким образом, за сутки и в период ГМВ отмечен рост потребления кислорода. Однако повышение МОК, МОД и ПО2 у ВТ- и НТ-лиц на фоне ААТ и ААТ + БлОПСС сочеталось не с повышением, а со снижением величины КИО2 и КУКТ в те же дни, что и повышение МОК, МОД и ПО2. Оказалось, что уровень утилизации кислорода тканями (по КИО2 и артериоло-венозной разнице содержания О2) был ниже, чем в спокойные дни. Однако на фоне ААТ + БлОПСС снижение КИО2 и КУКТ было менее выраженным. К исходным значениям величины КИО2 и КУКТ приходили в те же дни, что и МОК. Но и в данных условиях у ВТ-лиц во все дни исследования КИО2 и КУКТ были ниже, чем у НТ-лиц соответствующего темперамента. Положительным явилось то, что на фоне такого лечения величина указанных показателей у ВТ- и НТ-пациентов приближалась к значениям у ВТ- и НТ-здоровых лиц соответствующего темперамента. Различия были достоверными, но несущественными (на 2,2 ± 0,05 % по КИО2 и 2,3 ± 0,05 % по КУКТ) соответственно темпераменту.
Следует отметить, что на фоне только ААТ число приступов загрудинных болей в спокойные от ГМВ дни достоверно возрастало в последовательном ряду М > Ф > С > Х: 4,3 ± 0,04 > 3,5 ± 0,05 > 2,7 ± 0,04 > 1,8 ± 0,05. В период ГМВ и за сутки (только у Х) число приступов достоверно увеличивалось в том же последовательном «темпераментальном» ряду до 6,4 ± 0,06 > 5,6 ± 0,05 > 4,5 ± 0,04 соответственно. В аналогичных группах, принимавших лечение ААТ + БлОПСС, число приступов загрудинных болей до бури и в период бури было достоверно ниже. Так, М > Ф > Х > С: 3,6 ± 0,03 > 2,8 ± 0,05 > 2,0 ± 0,04 > 1,2 ± 0,04 случая. Положительным явился тот факт, что в дни М-бурь частота приступов у них была такой же, как у пациентов, принимавших препараты ААТ в спокойные дни. Такие же различия между темпераментами по частоте приступов получены в группах НТ-пациентов в указанные дни. Но их количество по сравнению с ВТ-лицами соответствующего темперамента было достоверно ниже (M > Ф > С > Х): 2,6 ± 0,03 > 1,9 ± 0,05 > 1,4 ± 0,04 > 1,1 ± 0,04 случая. В дни М-бурь (M > Ф > С > Х): 4,6 ± 0,03 > 3,9 ± 0,05 > 3,2 ± 0,04 > 2,3 ± 0,04 случая. Однако на фоне ААТ + БлОПСС число приступов оказалось достоверно ниже, чем на фоне ААТ-лечения. В спокойные от ГМВ дни (МФХС): 1,7 ± 0,03 > 1,4 ± 0,05 > 1,2 ± 0,04 > 0,97 ± 0,04 случая загрудинных болей. В дни М-бурь (МФХС): 3,7 ± 0,03 > 3,0 ± ,05 > 2,6 ± 0,04 > 2,0 ± 0,04 случая.
МОК (л) до и после магнитной бури у ВТ-пациентов на фоне антиангинальной терапии без сочетания (1) и в сочетании (1а) с препаратами, блокирующими особенности психосоматического статуса, за период с 2000 по 2010 г. (p < 0,05)
|
Дни до, в период и после начала М-бури |
-5 |
-2 |
-1 |
0 |
+1 |
+2 |
+3 |
+4 |
+5 |
+7 |
|
|
Мощность γ-фона среды, мкР/ч |
8,8±0,06 |
9,1±0,06 |
11,9±0,05 |
12,5±0,03 |
9,5±0,06 |
9,4±0,06 |
11,2±0,05 |
11,9±0,03 |
9,1±0,06 |
9,0±0,06 |
|
|
Х |
1 |
5,9±0,06 30 |
5,8±0,06 31 |
6,7±0,06 33 |
6,85±0,05 35 |
6,5±0,05 32 |
6,4±0,04 33 |
6,0±0,05 33 |
5,8±0,06 32 |
5,8±0,03 31 |
5,9±0,03 35 |
|
1а |
5,4±0,04 31 |
5,4±0,05 33 |
5,6±0,03 34 |
5,90±0,05 36 |
5,8±0,05 34 |
5,5±0,04 35 |
5,4±0,05 34 |
5,3±0,06 35 |
5,4±0,03 33 |
5,4±0,03 36 |
|
|
С |
1 |
5,7±0,06 33 |
5,6±0,06 31 |
5,8±0,04 33 |
6,5±0,05 34 |
6,6±0,05 33 |
6,2±0,04 34 |
6,0±0,05 33 |
6,1±0,04 33 |
5,6±0,03 34 |
5,6±0,03 36 |
|
1а |
5,2±0,04 34 |
5,1±0,05 35 |
5,2±0,03 36 |
5,5±0,05 34 |
5,8±0,05 34 |
5,7±0,04 33 |
5,4±0,05 34 |
5,3±0,06 35 |
5,4±0,03 33 |
5,4±0,03 34 |
|
|
Ф |
1 |
5,4±0,06 32 |
5,5±0,06 34 |
5,3±0,04 33 |
5,4±0,1 32 |
5,6±0,1 35 |
6,1±0,04 34 |
6,5±0,05 33 |
5,9±0,04 34 |
5,6±0,03 31 |
5,5±0,03 33 |
|
1а |
5,0±0,04 33 |
5,1±0,05 34 |
5,2±0,03 33 |
5,0±0,05 35 |
5,2±0,05 35 |
5,4±0,04 35 |
5,8±0,05 36 |
5,3±0,06 32 |
5,3±0,03 33 |
5,4±0,03 36 |
|
|
М |
1 |
4,8±0,06 34 |
4,7±0,06 31 |
4,9±0,04 32 |
5,0±0,1 32 |
5,4±0,1 33 |
5,6±0,04 33 |
5,7±0,05 32 |
6,4±0,04 33 |
6,0±0,03 34 |
5,3±0,03 36 |
|
1а |
4,3±0,04 34 |
4,2±0,05 34 |
4,3±0,03 33 |
4,4±0,05 33 |
4,3±0,05 34 |
4,6±0,04 33 |
4,6±0,05 33 |
5,3±0,06 34 |
5,4±0,03 33 |
5,4±0,03 35 |
|
Примечания: 1. Пациенты-мужчины с различным темпераментом, высоким и низким уровнем тревожности: 1, 2 – без коррекции особенностей ПСС; 1а, 2а – с коррекцией особенностей ПСС. 2. В числителе указано количество исследований.
Таким образом, у лиц группы контроля и пациентов экспериментальных групп в условиях повышения напряженности МП Земли и мощности γ-фона среды в период и за сутки (только у Х) до М-бури происходят сдвиги в структурах тканевого дыхания, которые сопровождаются снижением утилизации кислорода тканями и разницы по содержанию кислорода в артериа-лизованной и чисто венозной крови. «Задолженность» клеток тканей и миокарда, в том числе по кислороду, в период ГМВ приводит к переходу организма на более напряженный (по увеличению МОК, МОД, ПО2), но энергетически менее выгодный (по снижению КУКТ и КИО2) уровень функционирования. Отметим, что в условиях напряженного МП Земли интенсифицируется процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ), изменяются функции мембран эритроцитов и эндотелия капилляров вследствие ускорения процесса ПОЛ [4], [5], [17]. Нельзя исключить, что снижение утилизации О2 c одновременным повышением его содержания в оттекающей от тканей венозной крови является следствием роста ПОЛ и снижения утилизации О2 в митохондриях. В условиях региона отмечен рост мощности γ-фона среды за сутки до, в период и на 3–4-е сутки от начала ГМВ. Возможно, эти изменения способствовали развитию ПОЛ. Это тем более вероятно, если учесть, что вторая волна подъема мощности γ-фона среды развивается на фоне снижения напряженности МП Земли, на которую в эти дни в меньшей степени реагируют симпатотоники Х и С, в большей степени – пара-симпатотоники Ф- и М-пациентов. Именно в эти дни у Ф и М отмечено снижение отрицательных значений ВИК (снижение тонуса PSNS). В основе временных различий ответной реакции в период ГМВ также лежат особенности психосоматического статуса по темпераменту (гормональные, баланса SNS и PSNS, тревожности, депрессивности), что очевидно, если учесть, что на фоне ААТ + БлОПСС выраженность физиологических сдвигов во все дни ниже, а утилизация кислорода тканями выше, чем на фоне только ААТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-
1. В период ГМВ у трудоспособных больных ИБС (ФК-II, ГБ-I) мужчин отмечается увеличение МОК, МОД, ПО2, которое сочетается со снижением утилизации кислорода тканями (по КИО2 и КУКТ). Реакция организма (по изучаемым показателям) у Х отмечается за сутки и в первые сутки М-бури, у С – в день ГМВ и на вторые сутки, у Ф – на 3–4-е, а у М – и 4–5-е сутки,
-
2. В период М-бури снижение утилизации кислорода тканями (по КИО2 и КУКТ) сочетается с повышением мощности γ -фона среды за сутки и в 1-е сутки ГМВ, а также на 3–4-е сутки от начала бури.
-
3. Выраженность изменений снижается в последовательном ряду: М > Ф > С > Х. На фоне антиангинальной терапии с блокадой или без блокады особенностей ПСС у ВТ-лиц снижение утилизации кислорода тканями выше, чем у НТ-лиц соответствующего темперамента.
-
4. ААТ в сочетании с блокадой особенностей ПСС по сравнению с ААТ сочетается с более высоким уровнем утилизации кислорода тканями (по КИО2 и КУКТ) и снижением частоты приступов загрудинных болей.
что обусловлено различиями в психосоматическом статусе.
ИСТОЧНИК
-
1. Приказ № 254 Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией».
-
2. Акимова Е. В., Гакова Е. И., Пушкарев Г. С., Смазнов В. Ю., Гафаров В. В., Кузнецов В. А. Риск сердечнососудистой смертности и социальное положение в тюменской когорте: результаты 12-летнего проспективного исследования // Кардиология. 2010. № 7. C. 43–49.
-
3. Ахметжанов Э. Р. Шкала депрессии. Психологические тесты. М.: Лист, 1996. 320 c.
-
4. Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. Заболевания вегетативной нервной системы. М.: Медицина, 1991. 624 c.
-
5. Гурфинкель Ю. И. Ишемическая болезнь сердца и солнечная активность. М.: ИИКЦ «Эльф-3», 2004. 170 c.
-
6. Загидуллин Н. Ш., Валеева К. Ф., Гассанов Н., Загидуллин Ш. З. Значение дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистых заболеваниях и методы ее медикаментозной коррекции // Кардиология. 2010. № 5. C. 54–62.
-
7. Кишкун А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М.: ГЭОТАР, 2007. 800 c.
-
8. Ощепкова Е. В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации в 2001–2006 гг. и пути по ее снижению // Кардиология. 2009. № 2. C. 67–73.
-
9. Панин Л. Е., Усенко Г. А. Тревожность, адаптация и донозологическая диспансеризация. Новосибирск: СО РАМН, 2004. 316 c.
-
10. Профилактика, диагностика и лечение АГ. Рекомендации ВНОК // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2004. Прилож. 1–19.
-
11. Сергеев А. В. Стойкие органические загрязнители и атеросклероз. Достаточно ли имеющихся фактов, чтобы сделать однозначный вывод // Кардиология. 2010. № 4. C. 50–55.
-
12. Соколов Е. И., Лавренова Н. Ю., Голобородова И. В. Реакция симпатико-адреналовой системы у больных ишемической болезнью сердца при эмоциональном напряжении в зависимости от типа личности // Кардиология. 2009. № 12. C. 18–23.
-
13. Столяренко Л. Д. Опросник Айзенка по определению темперамента. Основы психологии. Ростов-н/Д: Феникс, 1997. 736 c.
-
14. Ткаченко Б. И. Нормальная физиология человека. М.: Медицина, 2005. 928 c.
-
15. Усенко А. Г., Нищета О. В., Величко Н. П., Усенко Г. А., Козырева Т. Ю., Демин А. А., Машков С. В., Ва-сендин Д. В., Шустер Г. С. Зависимость времени свертывания крови от содержания кортизола и альдостерона у больных гипертонической болезнью, подверженных воздействию токсических факторов // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН и Администрации Волгоградской области. 2011. № 3. C. 29–33.
-
16. Ханин Ю. Л. Исследование тревоги в спорте // Вопросы психологии. 1978. № 6. C. 94–106.
-
17. Янковская Л. В., Зинчук В. В., Лис М. А. Кислородно-транспортная функция крови и дисфункция эндотелия у больных со стенокардией и артериальной гипертензией // Кардиология. 2007. № 4. C. 22–27.
Список литературы Особенности потребления и использования кислорода организмом больных ишемической болезнью сердца в дни магнитных бурь в зависимости от психосоматического статуса
- Приказ № 254 Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией».
- Акимова Е. В., Гакова Е. И., Пушкарев Г. С., Смазнов В. Ю., Гафаров В. В., Кузнецов В. А. Риск сердечнососудистой смертности и социальное положение в тюменской когорте: результаты 12-летнего проспективного исследования//Кардиология. 2010. № 7. C. 43-49.
- Ахметжанов Э. Р. Шкала депрессии. Психологические тесты. М.: Лист, 1996. 320 c.
- Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. Заболевания вегетативной нервной системы. М.: Медицина, 1991. 624 c.
- Гурфинкель Ю. И. Ишемическая болезнь сердца и солнечная активность. М.: ИИКЦ «Эльф-3», 2004. 170 c.
- Загидуллин Н. Ш., Валеева К. Ф., Гассанов Н., Загидуллин Ш. З. Значение дисфункции эндотелия при сердечно-сосудистых заболеваниях и методы ее медикаментозной коррекции//Кардиология. 2010. № 5. C. 54-62.
- Кишкун А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики. М.: ГЭОТАР, 2007. 800 c.
- Ощепкова Е. В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации в 2001-2006 гг. и пути по ее снижению//Кардиология. 2009. № 2. C. 67-73.
- Панин Л. Е., Усенко Г. А. Тревожность, адаптация и донозологическая диспансеризация. Новосибирск: СО РАМН, 2004. 316 c.
- Профилактика, диагностика и лечение АГ. Рекомендации ВНОК//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2004. Прилож. 1-19.
- Сергеев А. В. Стойкие органические загрязнители и атеросклероз. Достаточно ли имеющихся фактов, чтобы сделать однозначный вывод//Кардиология. 2010. № 4. C. 50-55.
- Соколов Е. И., Лавренова Н. Ю., Голобородова И. В. Реакция симпатико-адреналовой системы у больных ишемической болезнью сердца при эмоциональном напряжении в зависимости от типа личности//Кардиология. 2009. № 12. C. 18-23.
- Столяренко Л. Д. Опросник Айзенка по определению темперамента /Основы психологии. Ростов-н/Д: Феникс, 1997. 736 c.
- Ткаченко Б. И. Нормальная физиология человека. М.: Медицина, 2005. 928 c.
- Усенко А. Г., Нищета О. В., Величко Н. П., Усенко Г. А., Козырева Т. Ю., Демин А. А., Машков С. В., Васендин Д. В., Шустер Г. С. Зависимость времени свертывания крови от содержания кортизола и альдостерона у больных гипертонической болезнью, подверженных воздействию токсических факторов//Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН и Администрации Волгоградской области. 2011. № 3. C. 29-33.
- Ханин Ю. Л. Исследование тревоги в спорте//Вопросы психологии. 1978. № 6. C. 94-106.
- Янковская Л. В., Зинчук В. В., Лис М. А. Кислородно-транспортная функция крови и дисфункция эндотелия у больных со стенокардией и артериальной гипертензией//Кардиология. 2007. № 4. C. 22-27.