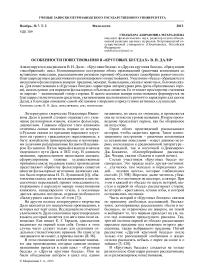Особенности повествования в «Круговых беседах» В. И. Даля
Автор: Мехралиева Гюльнара Ашрафовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (136) т.2, 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются два рассказа В.И. Даля - «Круговая беседа» и «Другая круговая беседа», образующие «несобранный» цикл. Композиционное построение обоих произведений (рамочная композиция со вставными новеллами, рассказанными разными героями) обусловливает своеобразие разноголосого (благодаря разным рассказчикам) и разножанрового повествования. Участники «бесед» обращаются к нескольким фольклорным жанрам: предание, меморат, бывальщина, сказка о животных, бытовая сказка. Для повествования в «Круговых беседах» характерна литературная речь (речь образованных героев), используемая для передачи фольклорных и бытовых сюжетов. Ее оттеняет просторечие «человека из народа» - кадниковский говор сторожа. В целом сказовая манера повествования формируется не благодаря стилистическим средствам, указывающим на спонтанность речи (что характерно для сказок Даля), а благодаря описанию самой обстановки говорения и присутствию активных слушателей.
В.и. даль, повествование, сказ, композиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14750515
IDR: 14750515 | УДК: 389
Текст научной статьи Особенности повествования в «Круговых беседах» В. И. Даля
Литературное творчество Владимира Ивановича Даля в разной степени отражает его увлечение разговорным языком, языком фольклора, диалектами. Главным образом этим влиянием отмечены сказки писателя, первые из которых («Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый») вышли в начале творческого пути Даля, в 1832 году. В длинном названии, предпосланном нескольким сказкам, сформулированы главные художественные принципы цикла: входящие в цикл произведения представляют обработку фольклорных сюжетов (многие фольклорные источники далевских сказок были определены И. П. Лупановой [4]), обы-товление сказок достигается введением в них несказочных персонажей, примет повседневности, вторжением в народную манеру повествования книжного, канцелярского стиля, а пословицы даются целыми гнездами, отражая особенности «балагурного сказа» (см. об этом [7]).
На другом полюсе литературного творчества Даля находятся его несказочные произведения, в которых нет черт сказа. Исследователи отмечают увлеченность Даля-сказочника простонародным языком, который является для него едва ли не самоцелью. Как пишет К. Г. Тарасов, «рассказчик выдвигает на первый план себя. Сюжет в этом случае часто служит только для сплетения отдельных стилистических приемов. Во главе угла оказывается не сюжет, а приемы сказа» [8; 46].
В этом отношении особое положение занимают два произведения, которые самими своими названиями просятся в один цикл – «Круговая беседа» и «Другая круговая беседа». Они не были объединены автором в цикл под одним названием, но связь их очевидна, и проявляется она не только на уровне названия. Второе произведение продолжает первое, как бы оборванное на полуслове.
Герои обоих произведений рассказывают истории, чтобы скоротать время. Такое композиционное построение – рамочная композиция со вставными новеллами – имеет давнюю историю, восходящую к средневековой литературе – как западной, так и восточной («Декамерон» Дж. Боккаччо, «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера, сказки «Тысячи и одной ночи»).
Состав участников «Круговых бесед» неоднороден. Это прежде всего друзья-охотники: «…случилось там молодых и порядочных людей… человек шесть», которые «забавлялись охотой» [3; 398]. Впрочем, далее читатель убеждается, что охотников не шестеро, а пятеро. При этом в каждой из «бесед» по шесть историй, шестую в первой из «бесед» рассказывает сторож, во второй – крестьянин, хозяин избы, в которой остановились охотники.
Часть историй в «Круговых беседах» связана по принципу свободных ассоциаций. Рассказчики, договорившись рассказывать «были и небылицы», не ограничены ни жанром, ни темой и выбирают то, что первым приходит на ум, часто под влиянием предыдущего рассказа. Так, третий охотник первой из «бесед» рассказывает народное предание под влиянием второго рассказчика, также выбравшего предание. Пятый рассказчик «Другой круговой беседы» после только что рассказанной «побасенки о жиде» «взялся рассказать небыль о еврее на сосне и о зайцах» [3; 420].
В «Круговых беседах» создается не только разноголосое (благодаря разным рассказчикам), но и разножанровое повествование.
Первая из «бесед» открывается рассказом старого охотника, представляющим собой пересказ фабул охотничьих баек: «Что ж, например, если я вам скажу, что раз живого дупеля, который, взлетев, попал головкой в самый зонтик морковника, так что две ветки захлестнулись вокруг шеи, и бедняк попал как в силок…» и т. д. [3; 399]. Даль использует в этом случае традиционный для фольклора прием создания комического, когда, по определению В. Я. Проппа, «фабула построена на совершенно очевидном и явном алогизме» [6; 107]. Но вместе с тем этот фольклорный прием приобретает в контексте рассказа иронию, сообщаемую самим рассказчиком. По сути это способ уйти от рассказывания истории и вместе с тем иронизирование над традиционными охотничьими рассказами, полными преувеличений и выдумок. Первый рассказчик задает тон беседе, предостерегает менее опытных товарищей от рассказывания охотничьих баек, цена которым ему хорошо известна. Поэтому остальные участники бесед обращаются к другим фольклорным жанрам: это предания (белорусское предание об Иване и Анне, об упрямой старухе, о Волге и Ва-зузе), мемораты (история о лишении наследства, о почтальоне), бывальщина (о мертвой жене), сказка о животных (сказка о коте, сказка о том, как портной с волка мерку снимал), бытовая сказка (сказка о жиде, самим рассказчиком она называется побасенкой, сказка о еврее на сосне и о зайцах, называемая автором небылью).
Первые пять рассказов обеих «Круговых бесед», которые автором называются «господскими россказнями», написаны литературным языком, это речь образованных людей. По рассказам двоих из них можно сказать, что они были или являются военными (рассказ о лишении наследства, рассказ о почтальоне). Рассказ сторожа выдает носителя диалектной речи, что подчеркивается автором: у него «кадниковский говор». Интересно, что в «Другой круговой беседе» рассказ крестьянина, вопреки вероятным читательским ожиданиям, не несет отпечатка диалектной речи, несмотря на замечание рассказчика о том, что эта сказка «простая, мужицкая», она изложена литературным языком. Вот, например, ее зачин: «Портной, который ходил по деревням и обшивал людей, пошел, куда ему надо было, в соседнюю деревню, и в лесу встретил волка» [3; 422]. В отличие от сказок «Пятка первого», читательское восприятие этой сказки не затрудняют стилистические украшения: целые серии пословиц, присказок, резкие смены функциональных стилей. На первый план в повествовании всех персонажей выходит собственно сюжет.
В целом повествование в «Круговых беседах» преимущественно строится на литературной речи, используемой для передачи фольклорных и бытовых сюжетов, оттененной просторечием «человека из народа» – хозяина избы.
Речь рассказчиков в ряде случаев сохраняет признаки сказового повествования. Три рассказа из двенадцати пунктуационно оформлены как прямая речь: в двух из них присутствуют обращения к слушателям («Что ж, например, если я вам скажу…» [3; 399], «Вот, братцы мои» [3; 404]); в одном – сохранение особенностей устной речи («Вот, видишь, дело было лонись – аль нет, в третьем годе…» [3; 408]). Пожалуй, последний пример – единственный, указывающий на спонтанность речи героев, которая характерна для сказа. В целом же рассказы охотников, сторожа и крестьянина производят впечатление литературных обработок фольклорных сюжетов. Лишь иногда в стилистическом однородном повествовании слышится разговорная интонация («Вот острастка-то ину пору и дороже побоев живет» [3; 423]).
По замечанию В. В. Виноградова, «когда рассказчик ведет речь свою “как по писанному”, т. е. когда он, оставаясь в сфере книжных норм, свободно владеет их устным употреблением, “сказ” с трудом может быть осознан стилистически и обособлен от авторского повествования… если нет прямых указаний на обстановку рассказчика и слушателей» [1; 123]. В рассматриваемых рассказах Даля, кроме некоторых редких речевых сигналов, указывающих на сказ, основным условием его возникновения становится именно обстановка говорения. Ритуал передачи слова от одного рассказчика к другому подчеркивается с помощью авторских связок («…третий товарищ… вызвался рассказать другое народное предание» [3; 400]; «товарищи… потребовали пятый рассказ» [3; 407]) либо посредством прямой речи самих рассказчиков («Товарищи рассмеялись и… потребовали пятый рассказ» [3; 404]; «А ну, дядя… расскажи что-нибудь» [3; 408]).
Другая значимая черта сказа – наличие «сочувственно настроенной аудитории» [5; 34], активных слушателей. Все слушатели «Круговых бесед» в то же время являются и рассказчиками. Комментируя услышанные истории, они вместе с тем выбирают, что рассказывать им самим, улавливая настроение аудитории. Характерно в этом отношении высказывание четвертого рассказчика после истории о старухе, помянувшей черта: «Что вы, братцы… на ночь, да еще в чистом поле, такое нехорошее рассказываете… Лучше я вам расскажу, за что тетка прогнала меня из дому и лишила наследства: это будет хоть глупо, да повеселее!» [3; 404].
Установка Даля на распространение сказовой манеры не только на речь крестьян предвосхитила трансформацию сказа под влиянием социальных изменений пореформенной эпохи. Е. Г. Мущенко, В. П. Скобелев и Л. Е. Кройчик, анализируя социальный облик носителя сказа в литературе первой половины XIX века, отмечают его принадлежность к крестьянской среде:
Особенности повествования в «Круговых беседах» В. И. Даля
«После 1861 г. рядом с образом крестьянина… появились образы рабочих, ремесленников, всякого рода слободских жителей… Понимание народного характера стало претерпевать изменения – понятие “народность” постепенно наполнялось новым содержанием» [5; 12].
В художественном пространстве обоих произведений не выстраивается иерархии рассказываемых историй. Все они равноправны – так же, как бывают равноправны путники на привале. Вопреки сложившемуся мнению о симпатии В. И. Даля к народным языку и культуре, здесь мы видим воплощение его приятия жизни в ее многообразии, о чем сам писатель убедительно высказался в статье «О русских пословицах»: «Народ в обширном смысле заключает в себе все сословия, и поэтому народное и простонародное не совсем одно и то же… <…> Образованные и даже полуобразованные состояния всегда более приближаются ко всемирному, и резкие особенности родного быта в них изглаживаются» [2].
На примере «Круговых бесед» мы видим трансформацию сказовой манеры Даля, то, как анализ простонародного в творчестве писателя сменяется его синтезом с народным, авторское стремление исследовать особенности языка и сознания разных сословий, без противопоставления их друг другу.
* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение № 14. В37.21.0539.
Список литературы Особенности повествования в «Круговых беседах» В. И. Даля
- Виноградов В.В. О теории художественной речи. М.: Высш. шк., 1971. 240 с.
- Даль В.И. О русских пословицах [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://philolog.petrsu.ru/vdahl/index.html
- Даль В.И. Полн. собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.: Столица, 1995. 432 с.
- Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск: Гос. изд-во КАССР, 1959. 504 с.
- Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1978. 288 с.
- Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). М.: Лабиринт, 2007. 256 с.
- Скобелев В.П. Об особенностях фольклорного сказа в «Русских сказках» В.И. Даля//Проблемы литературных жанров. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1975. С. 70-71.
- Тарасов К.Г. Художественные тенденции цикла В.И. Даля «Пяток первый»: Учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 107 с.