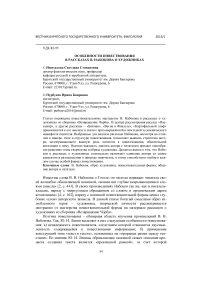Особенности повествования в рассказах В. Набокова о художниках
Автор: Имихелова Светлана Степановна, Пурбуева Ирина Баировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена повествовательному мастерству В. Набокова в рассказах о художниках из сборника «Возвращение Чорба». В центре рассмотрения рассказ «Пассажир», а другие рассказы - «Бахман», «Весна в Фиальте», «Картофельный эльф» привлекаются к его анализу в связи с ярко выраженной в нем идеей художнического манифеста писателя. Выбранные для анализа рассказы Набокова, несмотря на отличия в манере, типе и структуре повествования, позволяют выявить стратегию автора, подчеркивающего важную роль читателя в повествовании, обязательной апелляции к нему. Именно важность диалога автора с читателем придает своеобразие решению темы творчества и образа художника. Делается вывод о том, что Набоков в рассказах о художниках сознательно включают единение автора со своим адресатом в размышлении о природе творчества, и этому способствует выбор в каждом случае особой формы повествования.
В. набоков, образ художника, повествовательная форма, общение автора и читателя
Короткий адрес: https://sciup.org/148316591
IDR: 148316591 | УДК: 82-95
Текст научной статьи Особенности повествования в рассказах В. Набокова о художниках
Известны слова В. В. Набокова о Гоголе: он «всегда поражает читателя своей волшебно обновляющей новизной, своими все глубже вскрывающимися слоями смысла» [2, с. 443]. В своих произведениях Набоков так же, как и писатель-классик, наряду с «виртуозным обращением со словом и органическим даром композиции» [4, с. 162], наряду с новизной повествовательной формы ценил глубокие «слои» авторского замысла. В данной статье богатый смыслами образ излюбленного героя – художника, творческой личности рассматривается неотрывно от мастерства повествовательной формы на материале рассказов о художниках из сборника «Возвращение Чорба».
Поэтика повествования – обширная область изучения произведений В. В. Набокова. Так, Ю. И. Левин выделяет в них следующие особенности повествования: а) ненадежность повествователя, следствием которой становится двусмысленность содержащейся в повествовании информации; б) применение конструкций типа «текст в тексте», основанных на «прорывах рамки между текстами». По мнению Ю. И. Левина, обрамляющее основной сюжет описание процесса создания текста является «креативной рамкой», за счет которой
«внутреннее пространство текста размыкается, становится лишь подчиненной частью более широкого мира – мира творчества, и именно это размыкание становится носителем катарсиса» [1, c. 300].
«Креативная рамка» в прозе Набокова – способ усложнения повествования за счет «ненадежности повествователя», которая запутывает читателя, потому что история, рассказанная повествователем, в том числе героем-рассказчиком, неоднозначна. Сомнения повествователя, его неадекватность, забывчивость, «маска непонимания» приводят к «расшатыванию» авторской позиции. Тем не менее сложность повествовательной формы вызвана особенностями авторского отношения к изображенным событиям.
В центре рассказа «Пассажир» (1927) беседа, диалог писателя и критика (кстати, безымянных) о соотношении жизни и искусства. Герой-писатель сетует, что «мы», т.е. художники, писатели, занимаемся тем, что «пресный плагиат жизни» «приправляем собственными выдумками», не доверяя «гению» жизни. В таком словоупотреблении писатель резко отличается от своего собеседника, который уверен в правоте искусстваа в конце рассказа – отличается не только характером словоупотребления.
В доказательство своей мысли герой-писатель приводит один случай, приключившийся с ним в железнодорожной поездке. Весь его рассказ снабжен все той же иронией по отношению в «выдумкам» и штампам расхожей, массовой литературы. Так, в самом начале его рассказа, когда он уснул «под легкостью узкого казенного одеяла», следует фраза: «И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он – этот старый, хорошо вам известный прием. “Среди ночи я внезапно проснулся”» [3, с. 232]. Далее в своем повествовании он не раз подчеркнет, как жизненный случай свел его с соседом-пассажиром, лица которого он так не разглядел, как не разгадал загадку, почему устроившийся над ним на верхней койке пассажир вел себя совершенно неожиданно – он не спал и издавал звуки, которые бодрствовавшему герою стали яснее, когда он прислушался: «Человек на верхней койке рыдал».
Когда же поезд будет остановлен и сыщики будут искать преступника – убийцу своей жены и ее любовника (прием, насквозь мелодраматический) и проверять документы, герой-рассказчик ожидает, что именно этот рыдающий пассажир окажется тем, кого ищут. Но человек, полный секретов для писателя, способный стать героем будущего масштабного произведения, не оправдает ожидания писателя-рассказчика и окажется не тем, кого ищут. Тем не менее это дает ему возможность сделать вывод: «А ведь казалось, как вышло бы великолепно, — с точки зрения писателя, конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы, — и, главное, как великолепно все бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее» [3, с. 235]. Героя-писателя здесь задевает то, что он так и не увидел облика того, с кем провел ночь в вагоне поезда, что его волновал такой пустяк, как нога мужчины в шерстяном носке, сквозь дырку которого «торчал перед глазами крупный ноготь».
На первый поверхностный взгляд, в беседе двух людей - писателя и критика нет несогласия, недаром критик, «скромный», «с тонкими подвижными пальцами», «глядит добрыми глазами», и писатель в чем-то соглашается с ним. Оба обсуждают случай, который мог бы стать предметом «вполне завершенного рассказа», если бы пассажир оказался убийцей. Именно так считает критик, по мнению которого многое случайное и, наоборот, необычайное в жизни под пером писателя становится более значительным. Он отдает приоритет не жизни, а искусству слова и не замечает, насколько сказанное им звучит бессмысленно как общее место: «Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать не случайным» [3, с. 236].
Но более глубокий смысл открывается в том, что оба собеседника говорят об одном и том же, но говорят на разных языках. Если критик выскажет совершенно случайное предположение: «Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале…» и останется равнодушным в своем однозначном и узколобом отношении к услышанному, то герой-писатель никак не успокаивается: ему горько, что жизнь «имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое». И во второй раз употребляя слово «горе», говорит: «Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю…» [3, с. 236].
На этот финал накладывается начало рассказа, когда герой-писатель, вздыхая, отдает предпочтение жизни, восхищается ею: «Да, жизнь талантливее нас <…> Иногда она придумывает такие темы… Куда нам до нее! Ее произведения непереводимы, непередаваемы…». Писатель настолько восхищен жизнью, что говорит о ее «пустяках», волнуясь и тревожась. Ключевой, на наш взгляд, фразой становится его размышление: «…не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам?» [3, с. 233].
Таким образом, в рассказе «Пассажир» Набоков сталкивает случай из жизни и вымысел художника, размышляет о возможностях искусства слова сравниться с «гением жизни». И речь идет не о соперничестве писателя с самой жизнью, а о его способности увлекаться ею, восхищаться, горько удивляться, волноваться. Рассказ можно назвать художническим манифестом автора, потому что диалог писателя и критика на самом деле оказывается не спором двух героев - субъектов высказываний, а внутренним монологом его автора о творчестве, художнике, о том, в чем заключаются его сила и талант.
В «Пассажире» повествование вроде бы ведется от третьего лица, т. е. от лица всезнающего повествователя. Но он автору и не нужен, потому что как прием повествовательной формы противопоставлен голосам двух героев, т. е. голос повествователя здесь как бы устранен и на первый план выходит прямая речь героев. Слово повествователя напоминает ремарку в пьесе, включающую в себя оценку речи персонажа, описание его поведения, окружающей обстановки.
Можно выделить прием скользящей точки зрения - повествователь не обнаруживает своего отношения к словам, но сталкивает сказанное героем-писателем и героем-критиком: писатель считает: «...темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии» [3, с. 231], а критик высказывает противоположное мнение, считая правду искусства выше правды жизни: «Я заступаюсь за слово - мягко сказал критик. - Вы, писатель, по крайней мере, создали бы яркое разрешение» [3, c. 236]. Отсутствие прямого комментирующего слова повествователя, таким образом, оставляет открытым авторский смысл и активизирует реакцию читателя на спор героев: ему более близки сомнения писателя, мучающая его мысль о превосходстве жизни над «выдумкой», и потому рассказ «Пассажир» – это творческий пример развития выбранной автором классической формы повествования.
Рассказ «Бахман» (1924) построен на повествовании от первого лица. Герой-рассказчик читает в газете новость о том, что пианист и композитор Бахман умер и в связи с этим вспоминает женщину, которая любила его. При этом передает читателю историю, которую узнал от другого человека, т.е. не актуализирует собственную самостоятельность. Исследователь К. Сугимото обнаруживает в этом произведении «первые побеги» метаповествования, рассмотрев тип «творящего повествователя», появление которого в тексте связано со становлением жанра «метаромана, помещающего один вымысел внутрь другого». По мнению К. Сугимото, в основу повествовательной структуры рассказа Набокова «Бахман» положен специфический принцип, реализовавшийся в полной мере в поздних произведениях В. Набокова – так называемая «креативная рамка» [5, c. 301]. Она еще не совсем сформирована, но обозначена: «…я вспомнил по этому поводу рассказ о женщине, любившей его, переданный мне антрепренером Заком. Вот мой рассказ» [3, с. 170].
Герой-рассказчик настаивает на своей интерпретации услышанного рассказа, тем самым подчеркивает главную интригу: при жизни композитор почти равнодушен к героине. Зато после ее смерти его слава затухает, т. к. утерян смысл творчества с потерей любимой.
Кажется, что повествовательная «рама» мало что дает читателю, чтобы понять авторскую позицию, ведь снова нет прямого комментария: «Госпожа Перова познакомилась с Бахманом лет за десять до его смерти. В те дни золотой, глубокий, сумасшедший трепет его игры запечатлевался уже на воске, а заживо звучал в знаменитейших концертных залах» [3, с. 171]. Но и без этого на читателя оказывает неизгладимое впечатление заложенная в подтексте мысль о творческой силе любви.
Рассказ «Весна в Фиальте» (1936) также развивает мотив утраченной любви и строится по типу личного дневника. Герой-рассказчик приезжает в Фиальту, где встречает свою давнюю любовь Нину и с головой уходит в воспоминания: «Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего… назвать в точности не берусь: приятельства? романа?.. – она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее…» [3, c. 422]. Повествование ведется так, что нет грани между «событием рассказывания» и самим «рассказыванием»: то герой-рассказчик в настоящем времени, то он снова в мире воспоминаний. В рассказе почти отсутствуют диалоги, превалирует речь героя-рассказчика, постепенно убеждающего читателя в своем собственном чувстве к Нине. А ведь все содержание воспоминаний героя далеко от любовной темы – она, на первый взгляд, совершенно неожиданно врывается в его финальные слова. Читатель постоянно находится как бы рядом с речью героя и постепенно вместе с ним обнаруживает истинную суть его отношения к рассказываемому. Например, становится понят- ной его ирония по отношению к мужу Нины – писателю, вызванная словами сомнения о присутствии в нем таланта художника. На самом же деле субъективное мнение героя-рассказчика вызвано не только его чувством ревности. Эта мысль поневоле рождается в финале в восприятии читателя, поскольку заложена автором именно для него, направлена к его активности, к его вдумчивому пониманию смысла рассказа.
Мотив упущенного счастья, несостоявшейся любви в рассказах Набокова о художниках неотрывен от темы творчества, которая заключена в творческой природе героя. Противопоставление в рассказе «Весна в Фиальте» героя-рассказчика мужу Нины, лже-писателю, основано именно на специфике именно перволичного повествования, которое позволяет читателю увидеть в герое художественную натуру. Например, его воспоминание о первой встрече с Ниной очень поэтично и в подтексте читателю открываются грусть и горечь героя: «Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом... Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее Лужском имении, чистой деревенской зимой… Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев…» [3, с. 392]. Это высказывание героя открывает читателю внутренний смысл подтекста: знакомство героев совпало с «многообещающим заревом далекого пожара», похоронившего затем маленькие «островки» уходящей усадебной культуры, напророчившего грядущую разлуку.
В рассказе «Картофельный эльф» (1924) речь идет о герое-карлике, который остро нуждался в любви. Набоков дает возможность прочесть текст как бытовое повествование, но для внимательного читателя очевидно, что образ главного героя скроен из литературных мотивов: одиночество, уродство, традиционное романтическое противопоставление личности толпе, в котором пытается осмыслить свое существование главный герой. В письме Норе он одновременно рад назвать себя избранником любимой и испытывает горечь от того, что не является таковым перед лицом публики: над ним «каждый вечер хохочет людское стадо» [3, c. 108].
В рассказе повествование ведется от третьего лица, но здесь, в отличие от рассказа «Пассажир», повествователь находится над героем и его позиция четко выражена, но она дополнена и укрупнена поэтическим словоупотреблением героя-художника. Столкновение двух позиций, двух речевых обликов взывает к активности читательской позиции.
Таким образом, особенности повествования в выбранных рассказах Набокова, хотя и отличаются по типу и структуре, но подчинены стратегии автора, подчеркивающего важную роль читателя в повествовании, обязательного его присутствия. Именно это и придает не просто своеобразие решения автором темы творчества, но важность его диалогических размышлений о природе творческого дара, которые благодаря форме повествования обязательно включает единение автора и его адресата – читателя.
Список литературы Особенности повествования в рассказах В. Набокова о художниках
- Левин Ю. И. Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова // Избранное. - Москва, 1998.
- Набоков В. В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. - Москва: Независимая газета, 1996. - 440 с.
- Набоков В. В. Полное собрание рассказов / сост. А. Бабиков; 3-е изд., уточн. -Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2015. - 752 с.
- Струве Г. Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь. -Москва: Русский путь, 1996. - 446 с.
- Сугимото К. Творящий повествователь: Рассказ В. Набокова "Бахман" в контексте творчества В. Набокова // Культура русской диаспоры. - Тарту, 2000. - С. 298-311.