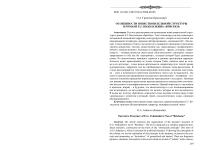Особенности повествовательной структуры в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен»
Автор: Гримова Ольга Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (55), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается организация повествовательной структуры в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен». Текст анализируется как сложноорганизованный нелинейный нарратив, конструируемый с опорой на актуальный для средневековой литературы «принцип абстрагирования», описанный Д.С. Лихачевым. Следуя выводам ученого, мы видим суть названного принципа в стремлении увидеть конкретное, частное, вещественное как «производные» вневременного, вечного, невещественного. В романе есть фрагменты - фразы, ситуации, микросюжеты, - которые являются своего рода «эйдетическими» единицами, концентрирующими в себе как бы «программу», согласно которой будет развиваться сюжет. По аналогичному принципу строится и уровень презентации наррации. Читатель видит происходящее не только глазами Глеба, события даны не только в его кругозоре - точка зрения протагониста «корректируется» точкой зрения аукториального нарратора, как бы обобщающего видение героя-рассказчика. В статье рассматривается текстомоделирующий понтенциал основной идеи романа - идеи о возможности прочтения жизненного текста как музыкального. Так один из законов конструирования музыкального произведения - полифония - становится основным принципом порождения произведения о музыканте. Значимая для романа концепция преодоления времени реализуется посредством соотношения актуального и контрфактуального сюжетов. Первый повествует о настоящем и прошлом, второй - о будущем, что свидетельствует о его позиционировании как иллюзорного, не заслуживающего тех надежд, которые на него возлагаются. В целом же, поэтику «Брисбена» определяет очень высокая степень присутствия «нероманных» элементов («готовый» герой, «монологическое» слово, «принцип абстрагирования»).
Повествовательная структура, современный роман, е.г. водолазкин, принцип абстрагирования, нарратор, контрфактуальный сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/149127273
IDR: 149127273 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00105
Текст научной статьи Особенности повествовательной структуры в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен»
Последний из вышедших в свет романов Е.Г. Водолазкина обладает сложной нарративной организацией, общий принцип которой напоминает тот, согласно которому построен предшествующий «Брисбену» «Авиатор». Повествование в обоих случаях состоит из двух потоков, один из которых связан с прошлым героя / страны, а другой - с настоящим. Устройство обоих нарративных потоков подчеркнуто хроникальное: как в летописных сводах либо дневниковых записях, фиксируется год (день, месяц), отмеченный значимым событием. В обоих романах временные потоки движутся не параллельно, а навстречу друг другу. В романе «Авиатор» так преодолевается распадение «цепи времен» - дореволюционное прошлое встречается с настоящим, в пространстве сознания протагониста восстанавливается целостность исторического бытия страны. В «Брисбене» личностное прошлое, осмысленное как история успеха, встречается с травмирующим настоящим - у героя обнаруживается болезнь Паркинсона, в результате чего он вынужден закончить музыкальную карьеру. Так оформленные в разные «истории», разведенные на два потока, настоящее и прошлое главного героя взаимоосвещаются, становятся фоном друг для друга, вступают в ряд иных сложных смысловых взаимодействий, которые было бы интересно проанализировать в контексте размышления об усложнении уровня презентации наррации в современном романе.
«Формула» соотношения настоящего и прошлого (только не личностного, а абсолютного) дана уже в первом эпизоде романа. Со знаменитым гитаристом знакомится писатель Сергей Нестеров, пишущий под псевдонимом Нестор. Главный герой признает, что из всех произведений автора, им прочитано лишь одно - «Повесть временных лет» (курсив Е.Г. Водолазкина - ОТ.) [Водолазкин 2019, 10]. В повествовании о юности героя есть эпизод, когда, разыскивая в Москве возлюбленную, живущую на улице Правды, герой думал не столько об этой улице, сколько «о правде как таковой» [Водолазкин 2019, 125].
Как нам кажется, основной принцип, которому подчинена нарративная

организация романа, может быть описан при помощи понятия «абстрагирование» в том значении, которое придавал ему Д.С. Лихачев, анализируя поэтику древнерусского текста. Оценивая описываемое с точки зрения вечного, древнерусский книжник видел в текущей современности ее эйдетические корни, а потому предпочитал описывать происходящее не исходя из его сиюминутных примет (конкретизирующая дескрипция), а возводя к идеалу-образцу абстрагируя, стремился «найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, “невещественное” в вещественном» [Лихачев 1979, 84-85].
Внероманный по своей сути, принцип абстрагирования определяет, как нам кажется, художественное мышление Е.Г. Водолазкина. Так, сходным видением мира наделен протагонист, видящий в Пушкине не столько реальную личность, сколько «плод русской фантазии, прекрасную мечту народа о самом себе» [Водолазкин 2019, 192]. Исходя из похожей концепции, повествователь оценивает уникальный музыкальный дар Глеба - умение дополнять голосом гитарную партию: голос интерпретируется как эй-дос музыки, «восстанавливающий» то, что было открыто композитору, но не было им воплощено в конкретном творении.
Интересно наблюдение Д.С. Лихачева о том, что смысловые зоны конкретного и обобщающего его абстрактного в древнерусском тексте обслуживались разными функциональными стилями языка - соответственно, разговорным и книжным [Лихачев 1979, 85]. Водолазкин прибегает к похожему приему, заставляя героев обращаться к украинскому там, где необходимо генерализующее, подводящее итог, расставляющее окончательные акценты слово. Так, дед Мефодий, парирующий суждение Глеба о том, что если умирать, то не стоит учиться музыке, вопросом «А якщо не вмира-ти?» [Водолазкин 2019, 145], предстает в романе практически сказочным персонажем: «<...> взмахи его рук рождали прежде невиданное. Как из рукава Василисы Премудрой, возникла небольшая церковь у Голосеевско-го леса, а в ней отец Петр» [Водолазкин 2019, 145].
Носителями такого «монологического», «готового» слова [Бахтин 1975, 477] оказываются, как правило, герои, выведенные во внебытовую сферу, не связанные с повседневным течением жизни протагониста: помимо деда Мефодия, это отец Глеба Федор, духовник главного героя отец Георгий, патер Петер, душевнобольной Франц-Петер и многие другие. В контексте темы нашего исследования значимо, что принцип абстрагирования формирует не только стилистическую, но и нарративную структуру рассматриваемого произведения - как рассказываемую историю, так и способ ее презентации. В романе есть фрагменты - фразы, ситуации, микросюжеты, - которые являются своего рода «эйдетическими» единицами, концентрирующими в себе как бы «программу», согласно которой будет развиваться сюжет и нарративная структура текста. Так, фраза Франца-Петера «жизнь есть долгое привыкание к смерти», которая изначально совершенно не вписывается в контекст беседы, в которой возникает, оказывается смысловой моделью множества эпизодов романа: напевает похоронный марш, «привыкая к смерти», соседка Яновских Евдокия; руководствуясь этим же мотивом, Ремо Джадзотто пишет «Адажио»; да и все эпизоды, когда главный герой слышит «сигнальные звоночки небытия» (М. Степанова), сталкиваясь с потерей чувствительности пальцев, а затем с травмой кисти, предвещающими финальное несчастье, можно рассматривать как сюжетные «варианты» названного выше инварианта.
Роль инварианта может играть не только фраза, но и ситуация. Так, для романа значима ситуация нахождения на грани света и тьмы. В начале романа Егор, пасынок Федора, учит своих дворовых друзей, что такая диспозиция - самая удачная при игре в прятки. Далее практически весь его жизненный сюжет - от возможного убийства владельца «Жигулей» до участия в революционных событиях на Украине и смерти - может быть описан этой формулой. То, как Вера в первый раз выходит на сцену, - подойдя к неосвещенной области, Глеб выпускает ее руку, и дальше ей предстоит идти одной - моделирует сцену ее ухода из жизни.
В данном контексте особенно значима финальная сцена романа. Это пересказанное главным героем воспоминание, входящее в текст как ответ на вопрос о том, что «было бы существенно для рассказа о его жизни и творчестве» [Водолазкин 2019, 410]. Герою видится страшный спуск, который совершает Ирина, держа его, маленького ребенка, на руках: «Мать тяжело дышит. Ладонью закрывает от ребенка пропасть. Раз за разом их окутывает дым, а неизвестная стоит над обрывом как впередсмотрящий» [Водолазкин 2019, 411].
Перед нами, очевидно, картина («фреска» - говорит о ней герой), ме-тафоризирующая человеческую жизнь - пугающее «движенье вниз» (ведь «нужно, в общем, именно туда, других путей не предвидится» [Водолазкин 2019, 411]), совершаемое в постоянном присутствии «незнакомой женщины», смерти. По сути, путь Глеба-человека, развернутый в романное повествование, является сюжетным воплощением этой «фрески». Неслучайно обе линии повествования (и о взрослом герое, и о маленьком) начинаются одинаково - описанием неудачи. Глеб-мальчик проваливает импровизированный экзамен, устроенный ему отцом, взрослый - не справляется с тремоло на одном из концертов и начинает подозревать, что болен. Заданная модель не распространяется на описание пути Глеба-музыканта, здесь, скорее, доминирует символика взлета, полета (герой неслучайно именует себя «авиатором»), противопоставленная символике движения в пропасть. Таким образом, финальная «фреска» и моделирует повествование, и преодолевается им: если личность разворачивает свое бытие только в сфере «человеческого», ее путь - неизбежный спуск вниз, изменить этот вектор возможно, лишь став творцом.
По принципу «абстрагирование - конкретизация» организован не только уровень рассказываемой истории, но и уровень презентации нар-рации. Повествование строится как чередование фрагментов, принадлежащих двум разным последовательностям. Одна из них - перволичное повествование, которое ведет Глеб Яновский с того момента, как начал

подозревать, что болен. Вторая цепочка фрагментов - третьеличное повествование о становлении музыканта, принадлежащее, вероятно, ему самому, оценивающему пройденный путь, а потому описывающему себя как «другого». Так, фрагменты, составляющие обе последовательности, объединены сходной манерой повествования, когда нарратор не просто являет читателю эпизод из прошлого, а как бы попутно заново оценивает, взвешивает его, убеждаясь в справедливости высказанных суждений либо в том, что изложенное не могло пойти по другому сценарию: «Он приехал, чтобы предложить Глебу прогулять уроки. Это было предложение, от которого невозможно, ну да, отказаться...» [Водолазкин 2019, 76]. Фокализатором здесь - как и в большинстве фрагментов - является главный герой. Наряду с этим обе повествовательные линии содержат эпизоды, транслирующие точку зрения явно более широкую, чем та, которой обладает протагонист. Например, в повествовании о становлении героя эпизод обсуждения Федором и Галиной дальнейшей судьбы Егора, который попытался убить брата, приведен в таких подробностях, которые просто не могли быть известны Глебу-ребенку не присутствовавшему при разговоре. В сюжет о современности входит фрагмент, где Глеб и лечащий врач Веры поют в клинике, при этом «издалека, с улицы Ам Блютенринг, доносится партия рояля» [Водолазкин 2019, 388], которая, безусловно, не может быть услышана ни одним из действующих лиц сцены. Музыка «доносится» до слуха некоего «третьего», который «генерализует» видение героя-рассказчика, как бы «дописывает» недостающее.
Если рассматривать роман с точки зрения принципа абстрагирования, то и уровень рассказываемой истории, и уровень презентации наррации можно увидеть как экспликацию неоднократно высказываемой центральными персонажами мысли о взаимообусловленности «текста жизни» и текста музыкального: с одной стороны, музыка является «производной» жизненного пути музыканта [Водолазкин 2019, 23], с другой стороны, этот путь разворачивается по музыкальным законам. Так, повествование включает в себя нотную партитуру песни, сочиненной Верой, - музыка представлена как текст - и в то же время сюжет и его презентация организованы по законам полифонии (причем не столько в бахтинском, сколько в специфически музыкальном смысле) - текст становится музыкой.
Как сформулировано в самом романе, полифония - такая организация музыкального произведения, когда одна и та же тема звучит в разных голосах, причем как в форме повтора («канон»), так и развиваясь [Водолазкин 2019, 160]. В тексте, организованном по законам полифонии, читатель сталкивается с ситуацией, когда в двух соседних фрагментах, принадлежащих разным повествовательным линиям («детской» и «взрослой») рассказывается о семантически идентичных событиях. Так, сцена, в которой заболевает Глеб-ребенок, размещается рядом со сценой, в которой Глеб-взрослый узнает, что страшный диагноз подтвердился. Подобные событийные «синонимы» связывают высокие / трагические микросюжеты с комическими. Например, концерты Глеба, которые воспринимаются зрителями как откровение, оказываются «зарифмованными» с концертами криминального авторитета Ивасика, вынужденного доплачивать зрителям за внимание к своему творчеству И самый высокий «титул» героя - «виртуоз» - также «транспонируется» в обыденно-комическую «тональность», сохраняя, впрочем, трагическую подсветку: когда герой, уже потерявший способность играть на гитаре, ловко пересаживает рыбок из аквариума в банку, жена называет его «виртуозом».
Текстомоделирующей становится не только высказываемая несколькими героями идея о взаимоконвертируемости жизни музыканта и музыки, но и идея о молчании как идеальном завершении пути музыканта. Эта идея, озвученная в воображаемом диалоге с матерью, предопределяет не только финал сюжета о становлении героя (на своем последнем концерте Глеб не может воспроизвести ни звука), но и способ завершения презентации наррации. В финальном фрагменте романа - «Р.8.» -повествование ведет нарратор, в кругозор которого не входит содержание сознания протагониста: «С тех пор Яновские недоступны. Они не подходят к телефону и не отвечают на письма. Когда упоминания о них прочно соединяются со словом исчезновение, они внезапно появляются на публике» [Водолазкин 2019, 408]. Если в основной части романа голос либо хотя бы точка зрения героя неизменно присутствовали в повествовании, то в финале героя как субъекта говорения и видения также постигает молчание.
Такой финал связан с еще одной значимой идеей романистики Водо-лазкина, реализованной и в рассматриваемом тексте, - идеей выхода из времени в вечность. Болезнь главного героя, фактически аннулирующая его личностные и профессиональные перспективы, должна «научить» его фокусироваться не на временном, а на вечном. Эту идею развивает в диалогах с внуком Мефодий: «С точки зрения вечности нет ни времени, ни направления. Так что жизнь - это не момент настоящего, а все прожитые тобой моменты. Глеб: ты говоришь о настоящем и прошлом, но молчишь о будущем - так, будто его нет. Мефодий: а его действительно нет. Ни в один из моментов. <.. .> Будущее - это свалка фантазий. Или - еще хуже -утопий: для их воплощения жертвуют настоящим» [Водолазкин 2019, 399]. Словно бы продолжением этого голоса является голос другого «не-романного» героя, отца Нектария: «Будущее легко отнять, потому что его не существует. Это всего лишь мечтание. Трудно отнять настоящее, еще труднее - прошлое. И невозможно, доложу я вам, отнять вечность» [Водолазкин 2019, 405].
Нарративной «конкретизацией» этой идеи становится такая организация повествования, при которой нарративам о настоящем и прошлом противопоставлен нарратив о будущем. Первые два - актуальны, если обратиться к терминологии М.-Л. Рьян [Ryan 2019, 65], то есть представлены читателю как реальность, «по-настоящему» разворачивающаяся в диеге-тическом мире текста, последний же - контрфактуален, разворачивается только в сознании персонажей.
Таким контрфактуальным повествованием о будущем становится сю-
жет о Брисбене. Фрагменты этого сюжета сначала входят в текст как экспликация мечты Ирины, матери Глеба, которая страстно желает переехать в австралийский город. Затем, когда мать погибает (читатель узнает об этом в финале романа), сюжет о Брисбене становится содержанием сознания протагониста, который, ведя воображаемые диалоги с Ириной, приходит к осознанию и принятию происходящего с ним. То, как функционирует в романе контрфактуальный сюжет о Брисбене, транслирует авторскую концепцию времени и временного.
Если в начале повествования Брисбен как материализация человеческой мечты, перенесения ценностного центра своего существования в будущее, коннотируется в основном позитивно («Рай»), то постепенно сюжет о Брисбене начинает наделяться новыми - негативными - коннотациями. Это уже не только райское место, но и материк, на который ссылали каторжников. Важна также и идея иллюзорности, которая начинает связываться с образом таинственного континента ближе к финалу книги: «Смотри, здесь пишут, что Австралии нет <...>. Ее придумали в Англии, когда массово казнили осужденных. Чтобы родственники не подняли бунт, им говорили: дескать, так и так, отправлен в Австралию. Поди проверь, в Австралии он или нет... <...> Ты все еще веришь, что Австралия существует?» [Водолазкин 2019, 351]. Этот же смысл возникает еще в эпиграфе - цитате из записок Джеймса Кука (чьим полным тезкой оказывается жених матери главного героя): “There is a reason to imagine that a continent, or land of great extent, may be found to the southward of the track of former navigators” [Водолазкин 2019, 7]. Лексема “imagine”, переведенная в авторской сноске как «предполагать», означает главным образом «воображать», «представлять». Так в роман вводится важная корреляция актуального и контрфактуального как действительного, связанного с настоящим и прошлым, и иллюзорного, несуществующего, связанного с будущим.
Если смотреть с этой точки зрения, сюжет о Брисбене может быть соотнесен с другими контрфактуальными сюжетами романа, построенными идентично: герой представляет себе развитие конкретной ситуации, являющейся частью актуального сюжета, и затем эта ситуация развивается совсем иначе. Так, Глеб, планируя произвести впечатление на отца своей игрой, в действительности не может извлечь и звука - из-за прохладного ветра пальцы музыканта утратили чувствительность. Мать Глеба связывает с Брисбеном мечту о начале нового этапа жизни, сам гитарист мечтает о продолжении своего пути в музыке, его комический двойник Бергамот - о славе, душевнобольной Франц-Петер - о встрече с воображаемым другом и т.д. Сфокусированность на будущем у протагониста столь сильна, что его восприятие показано через особого рода оптику: иногда моменты настоящего превращаются для него в прошлое (и тогда он буквально видит перед глазами выцветший черно-белый снимок), потому что герой проектирует, как он будет видеть эту ситуацию из будущего, когда она превратится в воспоминание: «Глядя на черную громаду моста, он понимал, что эти ночи запомнятся навсегда, и сердце его сжималось от будущих воспо- минаний. Знал, что вспомнит клетчатую скатерть с кругом, оставленным запотевшей кружкой, расшатанные венские стулья, громкое чоканье и хохот в зале. Лет, например, через тридцать - все ли они будут хохотать? И если да, то - где?» [Водолазкин 2019, 211]. Такая футуроцентричная оптика обесценивает настоящее и связанное с ним прошлое, не вписывается в ориентированную на вневременное, вечное систему координат прецедентной картины мира, определяющей природу и масштаб того, что является событийным в данном тексте. В читательском восприятии два временных плана (о чем мечтал герой - что получилось) оказываются постоянно соотнесенными, и результаты этой соотнесенности свидетельствуют о некоем «запрете на будущее»: Ирина не попадает в Брисбен, Глебу приходится завершить музыкальную карьеру, Бергамот оказывается в тюрьме, а Франц-Петер умирает. Аналогично соотнесены актуальный и контрфактуальный сюжеты еще в одной недавно вышедшей книге - романе Д. Глуховского «Текст»: надежда на спасение появляется у героя, когда он придумывает побег в Колумбию (сюжет о Колумбии также развернут как контрфактуальный), однако ему не удается осуществить разработанный план, в результате чего Илья гибнет [Глуховский 2020].
Очевидно, что «запрет на будущее», невозможность создания его позитивного образа, репрезентированные противостоянием действительно происходящего и воображаемого, глубоко симптоматичны для сознания современного человека. Может быть, это именно тот источник экзистенциальной тревоги, который обусловливает столь высокую степень актуальности мифогенных повествований в современной литературе, нарративов, событийность которых задается прецедентной картиной мира [Тюпа 2016, 81], романов, наращивающих степень присутствия нероманных элементов (средневековый «принцип абстрагирования», «монологическое» слово, «готовый» герой) в своей структуре.
Список литературы Особенности повествовательной структуры в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен»
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Водолазкин Е.Г. Брисбен: роман. М., 2019.
- Глуховский Д.А. Текст: роман. М., 2020.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
- Тюпа В.И. Введение в сравнительную нарратологию. М., 2016.
- Ryan M.-L. From possible worlds to storyworlds: on the worldness of narrative representation // Possible worlds theory and contemporary narratology. Lincoln; London. 2019. P. 32-74.