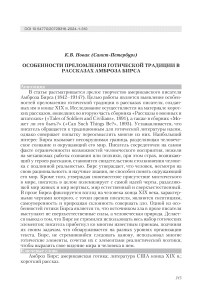Особенности преломления готической традиции в рассказах Амброза Бирса
Автор: Новак К.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается зрелое творчество американского писателя Амброза Бирса (1842-1914?). Целью работы является выявление особенностей преломления готической традиции в рассказах писателя, созданных им в конце XIX в. Исследование осуществляется на материале коротких рассказов, вошедших во вторую часть сборника «Рассказы о военных и штатских» («Tales of Soldiers and Civilians», 1891), а также в сборник «Может ли это быть?» («Can Such Things Be?», 1893). Устанавливается, что писатель обращается к традиционным для готической литературы идеям, однако совершает попытку переосмыслить многие из них. Наибольший интерес Бирса вызывает несокрушимая граница, разделяющая человеческое сознание и окружающий его мир. Писатель сосредоточен на самом факте ограниченности возможностей человеческого восприятия, нежели на механизмах работы сознания или психики, при этом страх, возникающий у героев рассказов, становится свидетельством столкновения человека с подлинной реальностью. Бирс утверждает, что человек, несмотря на свою рациональность и научные знания, не способен понять окружающий его мир. Кроме того, утверждая повсеместное присутствие мистического в мире, писатель в целом полемизирует с самой идеей черты, разделяющей мир живых и мир мертвых, мир естественный и сверхъестественный. В прозе Бирса фиксируется взгляд на человека конца XIX века, характерными чертами которого, с точки зрения писателя, являются скептицизм, самоуверенность и природная склонность совершать зло. Одной из особенностей готики Бирса является то, что источником зла в прозе писателя выступают не сверхъестественные силы, а человеческая природа. Делается вывод о том, что Бирс не стремился использовать весь набор готических элементов; писатель прибегнул ко многим известным приемам, подчиняя их своим задачам, что обнаруживается на разных уровнях организации текста. Бирс, не стремившийся следовать канону, использовал многие готические элементы, сочетая их с элементами реалистической поэтики, чтобы выразить свое видение мира и человека в нем.
Амброз бирс, американская готика, литература сша конца xix в, короткий рассказ
Короткий адрес: https://sciup.org/149145255
IDR: 149145255 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-310
Текст научной статьи Особенности преломления готической традиции в рассказах Амброза Бирса
Литературная готика – одно из наиболее примечательных течений в мировой литературе, вызывающее неизменный интерес читателей, литературоведов, писателей. Эволюция этого направления, зародившегося в Англии, происходила на протяжении XVIII–XIX вв., а в конце XVIII столетия готика проникла и в другие национальные литературы.
Множество произведений Амброза Бирса (1842–1914?), созданных на зрелом этапе творчества, в отечественной критике зачастую называют «страшными» рассказами. К ним относятся произведения, вошедшие во вторую часть сборника «Рассказы о военных и штатских», такие как
«Житель Каркозы», «Соответствующая обстановка», «Страж мертвеца», «Человек и змея», а также в сборник «Может ли это быть?», среди них – «Диагноз смерти», «За стеной», «Кувшин сиропа», «Напрасная затея», «Похороны Джона Мортонсона», «Проситель», «Хозяин Моксона» и «Часы Джона Бартайна». Однако мы считаем, что было бы более правильно назвать эти рассказы «готическими», несмотря на то, что многие традиционные для готики элементы в них отсутствуют, либо существенно трансформируются.
Известно, что готическое повествование традиционно строится вокруг некой тайны, раскрытие которой происходит лишь в самом финале произведения [Жирмунский, Сигал 1967, 260]. По замечанию А.С. Ефимова, формула готического сюжета включает в себя такие элементы, как «ключ» (персонаж), «замок» (пространство, находящееся во власти злодея) и «дверь», за которой скрывается страшная тайна («сокрытое»). В рамках произведения сюжетная задача «ключа» заключается в том, чтобы сломать «замок», в результате чего тот открывает «дверь» и находит «сокрытое» [Ефимов 2019, 21]. Интересно, что в одном из рассказов Бирса этот порядок действий воспроизводится буквально – рассказчик в «Хозяине Моксона», оказавшийся перед самой кульминацией в доме своего друга-изобретателя, открывает дверь в мастерскую и видит экспериментальную модель робота, тайно разработанного ученым.
Однако данный сюжет, где тайное остается загадкой до самого конца – исключение. В рассказах писателя тайны чаще всего раскрываются в самом начале, а интрига сохраняется не столько благодаря тайне, сколько при помощи недомолвок – подробные объяснения одних обстоятельств соседствуют с опущением других. В большинстве произведений центральные происшествия вынесены в завязку, а дальнейшее повествование лишь разъясняет причины и ход развития событий. Рассказчик часто вдается в бытовые подробности случившегося, при этом обходит вниманием подлинную суть событий, природу которых невозможно объяснить. Подобная недосказанность в целом характерна для литературы конца XIX в., балансирующей между откровением и объяснением в изложении истории [Sage 1993, 4]. При этом в рассказах Бирса интригует, как правило, не сущность того, что сокрыто, а само столкновение человека с неизвестным и то, что происходит с ним во время этого столкновения.
Интересно, что Бирс, обращаясь, прежде всего, к мышлению читателей, как будто бы не стремится вызвать у нас интенсивное переживание. Его герои редко реагируют на происходящее с ними или же не показывают своих чувств. В «Диагнозе смерти», к примеру, герой рассказа, ставший свидетелем необъяснимых событий, подчеркивает: «Что я почувствовал, когда это сообразил, не относится к делу» [Бирс 1989, 175]. Другой пример – журналист из «Напрасной затеи»; проведя ночь в окружении беснующихся призраков, он отвечает на вопрос редактора о том, что видел: «Ничего особенного» [Bierce 1918, 382]. В рассказах также почти не встречаются подробные описания жутких мистических явлений, способные пробудить в читателях страх или ужас, однако в них все же присутству- ют некоторые эпизоды, вызывающие у нас некоторую тревогу, волнение, либо отвращение.
Известно, что готические произведения способны вызвать у читателя horror (страх отвращения), либо terror (возвышенный страх). Зачастую в рамках одного и того же произведения Бирса можно увидеть оба этих вида страха, при этом первый всегда главенствует над вторым, затмевает его. К примеру, первая половина рассказа «Страж мертвеца» как будто бы призвана вызвать у читателя terror – по сюжету, юноша по имени Джерред оказался заперт в мрачном старом доме наедине с мертвецом (а точнее, с живым человеком, притворившимся трупом), которого, впрочем, тот не боится, однако все же бережет свечу, чтобы не провести ночь подле него в кромешной тьме. Солнце садится, и Джерред начинает слышать странные звуки и шорохи, что создает угнетающую атмосферу. В кульминации произведения человек, притворившийся трупом, решает «воскреснуть», чем пугает подопытного до смерти. Далее, в утренней сцене, мы наблюдаем уже не поддельный труп (тело Джерреда), который внушает нам подлинное отвращение: читатель видит покойника глазами двух докторов, описывающих это «ужасное» и «отвратительное» зрелище [Бирс 1989, 130].
Можно сказать, что писатель здесь выражает свое неверие в возвышающую силу страха – его главную функцию, по мнению известного мастера готического нарратива Анны Радклиф [Radcliffe 1826, 150]. С точки зрения Бирса terror – поверхностное чувство, которое не ведет человека к духовной трансформации, а подлинным страхом является именно horror, испытываемый персонажами при столкновении со смертью, да и он, однако, не вызывает каких-либо внутренних трансформаций.
Читатель рассказов Бирса чаще всего испытывает страх, который вызывают не описанные на страницах его историй ужасы, а то обстоятельство, что самые немыслимые вещи оказываются правдой. Мистические явления, вызывающие terror и призванные подстегнуть интерес читателя в самом начале рассказа, в финале произведения сменяет horror – страх перед свершившимся или же перед ужасными последствиями случившегося.
Например, в рассказе «Диагноз смерти» доктор, являющийся с того света постояльцу своего прежнего дома, вызывает terror , однако horror , возникающий у нас в конце рассказа в связи с пониманием того, что предсказание призрака скоро сбудется, замещает его. Другой пример – «Похороны Джона Мортонсона», где вид покойного вызывает некоторую печаль, однако ее сменяет цепенящий ужас, когда из гроба внезапно показывается кот, неизвестно каким образом туда забравшийся. Страх вызывает, конечно, не сам кот и не вид покойника, а контекст, противоестественность ситуации. Но любопытно здесь другое. Этот рассказ, судя по всему, содержит отсылку к «Черному коту» Эдгара Аллана По, где питомец олицетворяет страшные тайны прошлого. Как и в рассказе По, в произведении Бирса важно, что страх вызывает появление именно живого существа.
Известно, что персонажи готических сюжетов представляют собой широкий набор типов: они «подобны фигурам многих пейзажных полотен» [Скотт 2000, 353], что полностью подчинены месту действия. Дей- ствительно, герои готических романов наделяются скорее типическими, а не индивидуальными чертами; на страницах романов можно встретить инфернальных злодеев, чувствительных героинь, честных и благородных юношей и др. Персонажей, населяющих рассказы Бирса, внутренний мир и внешность которых намечены лишь легкими штрихами, можно назвать одномерными, функциональными, и все же типичные формульные герои, характерные для готики, почти не встречаются.
Конфликты готических произведений строятся, как правило, на противостоянии злодея и жертвы, а для прозы Бирса более характерен субстанциональный конфликт, возникающий при столкновении персонажа с явлениями окружающего мира. Конфликт, напоминающий противостояние злодея и жертвы, возникает, например, в «Соответствующей обстановке», где один из центральных персонажей (писатель) советует одному своему почитателю прочесть сочиненные им тексты в месте с подходящей для этого атмосферой, где они могли бы произвести на того задуманный автором эффект, и тем самым, сознательно или нет, губит его – поклонник погибает в процессе чтения. Другой пример – «Страж мертвеца», где доктора проводят сомнительный эксперимент, в ходе которого один из них решает подшутить над испытуемым, что заканчивается смертью последнего. Следует отметить, что контраст между положительными и отрицательными персонажами готических произведений может в значительной степени основываться на противоборстве старины и современности. Конфликт, происходящий между положительным молодым персонажем и неким злодеем, часто предстает «столкновением цивилизации и варварства, современности и архаики, прогресса и реакции» [Karl 1975, 239].
В рассказе же «Страж мертвеца» доктора символизируют современность, таящую в себе опасность. Важно, что разделение на положительных и отрицательных персонажей в творчестве Бирса довольно условно. Так, доктора не желали нанести вред испытуемому – тот погиб, как и вышеупомянутый герой «Соответствующей обстановки», отчасти по вине собственной самонадеянности. В целом злодеи и жертвы в этих рассказах напоминают обыкновенных людей со своими недостатками, которые губят их самих: отрицательные и положительные черты соединяются у Бирса в одном характере, и даже жертвы сверхъестественных сил и преступлений зачастую оказываются не такими уж и безвинными. Здесь сказывается влияние реализма, впервые проявившегося в литературе США в середине 1860-х гг., когда стремление к усложнению характеров стало важной тенденцией.
Любопытно, что главным злодеем «Стража мертвеца» оказывается Мэнчер – доктор с говорящей фамилией (от man – мужчина, человек). Этот персонаж, по мысли писателя, таит в себе даже больше зла, чем Хел-берсон (от hell – ад, преисподняя), чья фамилия также недвусмысленно намекает на его сущность. Так, настоящим источником зла у Бирса оказываются не дьявольские силы, а именно человек.
Бирс также говорит о том, что даже безобидные порывы нередко обращаются во зло. Так, например, происходит с изобретателем в рассказе «Хозяин Моксона», где писатель затрагивает тему последствий стреми- тельного развития науки и техники. Как и доктор из романа «Франкенштейн», Моксон создает нечто, являющееся доказательством «безграничных возможностей, открывающихся человеческому разуму, который проникает в тайны природы» [Елистратова 1989, 11], и что в итоге оборачивается против своего же творца. Однако важнее здесь то, что в «Хозяине Моксона» страх вызывает даже не столько способная к самостоятельному мышлению машина, сколько естественность ее жестов, движений, которым та обучилась благодаря общению с изобретателем. Так, писатель не просто критикует достижения своего века – «человеческое» в рассказах писателя пугает даже больше, чем «сверхъестественное».
Время и пространство, как известно, являются основными составляющими системы хронотопа – особой пространственно-временной организации текста, в рамках которой эти характеристики органически связаны. Время в этой системе по отношению к пространству занимает главенствующую позицию, пространство же, в свою очередь, «интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории» [Бахтин 2000, 10]. В готическом романе основным местом действия чаще всего выступает замок, насыщенный историческим временем и создающий тем самым специфическую сюжетность [Бахтин 2000, 179–180], а хронотоп замка предполагает совокупность устойчивых и повторяющихся мотивов: мотив темного прошлого, мотив пространственной и временной изоляции, мотив «живого дома».
Интересно, что в американской готике, стремившейся «приспособить элементы готики европейской к американским обстоятельствам», хронотоп замка «был переработан в хронотоп дома с дурной славой, при этом изначальный мотивный комплекс остался прежним» [Васильева 2020, 91].
Устойчивые мотивы готического хронотопа встречаются и у Бирса. К примеру, мотив «живого дома» обнаруживается в рассказе «Напрасная затея», где в центре внимания находится дом, который «сбрасывает со ступенек» всякого, кто пытается в него войти, при этом дверь его «тут же открывается, видимо, по собственной воле» [Bierce 1918, 378].
В другом рассказе, «Кувшин сиропа», мы находим мотив пространственно-временной изоляции. Местом действия здесь выступает хозяйственная лавка покойного коммерсанта, попадая в которую, люди начинают вести себя очень странно. Этот рассказ, помимо прочего, интересен тем, что жители, испытавшие на себе сверхъестественное воздействие места, на следующий день сделали вид, что ничего особенного с ними не произошло. Так, человек в рассказах писателя склонен не замечать многих явлений окружающего его мира, и зачастую, например, насыщенность места временем в рассказах ощущает именно читатель.
В связи с этим особенно любопытен «Житель Каркозы», на страницах которого мы знакомимся с мужчиной, осознавшим, что он стал духом и находится на руинах места, некогда бывшего его родным городом. В ходе сюжета он встречает архаичного вида человека – другого духа, как можно предположить – живущего здесь с еще более древних времен. Так, прошлое не уходит, а продолжается в настоящем, а время, протекающее од- новременно на нескольких уровнях, пронизывает пространство. И хотя большинство произведений Бирса не разворачивается в историческом прошлом, место в рассказах писателя часто насыщенно временем.
Помимо замков, в готических произведениях встречаются и другие виды пространств, например лабиринты, явленные в виде подземелья, либо же внутреннее пространство замка или поместья, состоящее из множества помещений, соединенных между собой, может напоминать лабиринт. Перемещения по подземным ходам и между помещениями символизируют испытания героя, блуждающего в лабиринте своего «Я», во время которого происходит его внутреннее становление.
У Бирса этот мотив встречается, например, в «Страже мертвеца». По сюжету, герой оказывается запертым наедине с покойником в комнате, где он по условиям пари должен провести ночь. Если в начале эксперимента молодой человек не проявляет и капли беспокойства, то впоследствии в его поведении проступают признаки внутреннего разлада: он бродит по комнате, обследует ее, внимательно изучает мебель, а затем садится читать книгу, то и дело бросая задумчивый взгляд на мертвеца, черты лица которого удивительно схожи с его собственными. Пребывание в этой комнате отражает его внутренний поиск, исследование самого себя (сходные с теми, что проделывают герои готических произведений, путешествуя по лабиринтам и переходам замков), и к наступлению ночи становятся заметны перемены, произошедшие в нем. При этом становление персонажа прерывается – он умирает. Так, пространственное блуждание становится здесь блужданием метафизическим, а вместо квазиреального лабиринта возникает лабиринт собственного сознания.
Как можно заметить, сюжетная линия здесь осуществляет только три из четырех фаз развертывания – характерная черта готических произведений писателя. Как известно, в первой фазе – фазе обособления – мы обычно знакомимся с предысторией главного героя; здесь происходит ослабление прежних связей персонажа с окружающим миром, возникает «пространственный уход», либо «уход в себя». Во второй фазе (партнерство) устанавливаются новые связи, при этом персонаж может обретать как «помощников», так и «вредителей». В третьей фазе (лиминальной) происходит встреча со смертью – испытание героя, пройдя через которое он как бы рождается к новой жизни («преображается») [Тюпа 2009, 38–40]. Герои же Бирса, как правило, не проходят испытания смертью (повествование часто обрывается прямо перед их неминуемой гибелью) в лиминальной фазе, и преображение, соответственно, не наступает, а статус действующего лица – ни внутренний, ни внешний – не меняется.
При этом в финале повествование нередко возвращается к фазе обособления, в чем проявляется смысловое своеобразие сюжетов писателя. На страницах своих произведений писатель нередко задается вопросом о том, что представляет собой история – череду случайностей или же цепь заранее предопределенных событий, которым свойственно повторяться. Ответ кроется не в последнюю очередь в особой организации системы эпизодов в рассказах. В «Просителе», например, большая часть текста по- священа предыстории приюта для стариков и его основателя, а событиям хронологически более поздним уделяется лишь в двух абзацах – в первом и в последнем, как бы переходящим друг в друга. Эпизоды, посвященные прошлому, показывают, что события последовательно складывались так, чтобы филантроп вернулся к отправной точке: в фазе обособления он открывает учреждение, затем решает отправиться в странствия и назначает управляющим мистера Тилбоди (фаза партнерства). В следующей, лими-нальной фазе, мы видим уставшего от странствий старика, возвращающегося в родные края, где ему отказывают в приюте, тем самым обрекая на смерть – как и в «Страже мертвеца», фаза преображения не наступает. Вне основного сюжетного образования здесь оказывается дополнительный, малопримечательный эпизод, в котором управляющий приютом и его основатель (уже получивший отказ) выходят на заснеженную улицу. «Следы, протоптанные стариком, уже занесло, и он замедлил шаг, видимо, не зная, куда идти» [Бирс 1989, 120–121].
Примечательно, что в готическом повествовании вторжение прошлого в настоящее всегда судьбоносно, а читатели произведений неизменно убеждаются в «беспомощности человека перед непостижимой мощью иррациональных сил» [Тураев 1983, 82]. И хотя подобное вторжение иногда оборачивается гибелью для персонажей Бирса («Часы Джона Бартайна», «Диагноз смерти»), само по себе прошлое не является, по мнению писателя, источником зла. Привидения, например, никогда не причиняют вреда людям и не стремятся их напугать.
Так, в рассказе «За стеной», призрак девушки, пытаясь поговорить с молодым человеком, с которым та познакомилась незадолго до своей смерти, стучит по стене его квартиры, поскольку именно так они и общались друг с другом при жизни, а дух доктора в «Диагнозе смерти» и вовсе стремится помочь главному герою, предупреждая его об опасности – как духи в «Рождественских повестях» («Christmas Books») Диккенса 1840-х гг., которые являются Скруджу Эбенейзеру, чтобы вразумить его
[Горошкова 2013, 7]. По мысли писателя, потусторонние силы, управляющие миром, не стремятся навредить человеку. В мире рассказов Бирса сверхъестественные силы регулируют жизнь, предопределяют события, которые мы впоследствии именуем историей, а смерть выступает ролевой границей персонажей [Тюпа 2009, 43], принципиально не способных к духовному преображению.
Как уже отмечалось выше, готика проблематизирует границы, отделяющие живое от мертвого, а также реальное от нереального, материальное от трансцендентного. Сама возможность нарушения некого равновесия этих двух измерений обусловливает страх перед мирозданием, присутствующий в готической картине мира. Особое внимание уделяется зыбкой и подвижной границе, разделяющей мир живых и мир мертвых, поэтому произведения нередко содержат как взгляд за черту смерти, так и взгляд из-за нее, эксплицируемый чаще всего в мотиве призрака [Заломкина 2010, 180]. Готика, кроме того, актуализирует границы человеческого понимания и также размышляет над их подвижностью, намекает на существование более глубокого смысла происходящего, недоступного человеческому восприятию.
В своих рассказах Бирс развивает эту мысль. Не просто допуская, а утверждая повсеместное присутствие мистического в мире, писатель скорее полемизирует с самой идеей черты, разделяющей мир живых и мир мертвых, мир естественный и сверхъестественный – границ, которые у него лишь едва намечены. Мир Бирса целен и неделим. В нем явно присутствует лишь одна граница – граница между человеческим сознанием и миром, недоступным его пониманию. Писатель интересуется не тем, что лежит по обе стороны этой черты, а ею самой, ее непреодолимостью, нерушимостью, а вовсе не зыбкостью, эфемерностью. Так, его герои ощущают присутствие необъяснимого, но не могут ни прозреть, ни даже прикоснуться к неизведанному, оставшись при этом в живых. Используя традиционные для готики атрибуты, создающие атмосферу страха, писатель подчеркивает контраст между тем, что персонажи чувствуют и что они думают при столкновении с тем, что они считают сверхъестественным. Его герои стремятся рационально объяснить мистику, что не избавляет их от гнетущего чувства – даже не страха, но беспричинной, как они считают, тревоги. Так, в «Диагнозе смерти» постоялец отмечает, говоря о своем времяпровождении в поместье почившего доктора, что там им «неизменно овладевала меланхолия, совсем ему «не свойственная» [Бирс 1989, 174]. Так, персонаж не осознает, но ощущает присутствие запредельного.
Эта мысль особенно ярко воплощена в рассказе «В области нереального», главный герой которого так легко принимает иллюзии за реальность, что погибает, как только они разрушаются. В целом человек, которому, по мнению Бирса, свойственны самонадеянность и скептицизм, склонен игнорировать странное – как, например, в «Кувшине сиропа», где вошедшие в лавку покойного коммерсанта стали вести себя необычно, однако через некоторое время сошлись на том, что произошедшее им почудилось, и с иронией заключили, что призрак безобиден, а значит, «можно разрешить покойнику занять его место за прилавком» [Бирс 1989, 210].
Наибольший интерес Бирса вызывает несокрушимая граница, разделяющая человеческое сознание и окружающий его мир. Писатель сосредоточен на самом факте ограниченности возможностей человеческого восприятия, нежели на механизмах работы сознания или психики, при этом страх, возникающий у героев рассказов, становится свидетельством столкновения человека с подлинной реальностью. Его персонажи нередко совершают некоторые шаги на пути к познанию мира, однако подобное движение ведет их лишь к смерти. При этом, по мысли писателя, потусторонние силы регулируют жизнь человека и вовсе не стремятся навредить ему. В его прозе фиксируется взгляд на человека конца ХIХ в., в природе которого – скептицизм, самоуверенность, склонность ко злу и неразумному поведению. Будучи невысокого мнения о человеке как таковом, Бирс не верил в возможность его внутренней трансформации, а потому не слишком стремился воздействовать на эмоции читателя. Так, писатель апеллировал не к чувствам, но к разуму, заставляя читателя осознать всю непостижимость мира – именно поэтому многие рассказы автора, призванные вызывать в самом начале лишь легкий terror , завершаются эпизодами, от знакомства с которыми читатель начинает испытывать horror . Интересно, что в готическом нарративе все ужасы, независимо от их природы, обычно локализованы на конкретной территории и не могут прорваться вовне. В произведениях же Бирса пугает именно повсеместность необъяснимого.
Таким образом, писатель поднимает традиционные для готики темы, однако переосмысляет многие идеи. Не стремясь использовать весь набор готических элементов, он, однако, охотно прибегает ко многим известным приемам, подчиняя их своим задачам, что обнаруживается на разных уровнях организации текста. Писатель, не стремившийся следовать канону, все же использовал многие готические элементы, сочетая их с элементами реалистической поэтики, чтобы выразить свое видение мира и человека в нем.
Список литературы Особенности преломления готической традиции в рассказах Амброза Бирса
- Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. С. 11–193.
- Бирс А. Заколоченное окно. Рассказы и миниатюры / под ред. С.В. Марченко. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1989. 272 с.
- Васильева Э.В. Особенности хронотопа в новоанглийской готике: «Дом о семи фронтонах» Н. Готорна и «Призрак дома на холме» Ш. Джексон // Вестник Костромского государственного университета. 2020. № 1. Т. 26. С. 87–92.
- Горошкова Р.Р. О «неготической готичности» в поэтике рождественских повестей 1840-х годов Ч. Диккенса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. 2013. № 4. С. 3–10.
- Елистратова А.А. Предисловие // Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей: роман. М.: Художественная литература, 1989. С. 3–20.
- Ефимов А.С. Русский антинигилистический роман 1860–1870 гг. и «готический сюжет» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 2. Т. 11. C. 18–25.
- Жирмунский В.М., Сигал Н.А. У истоков европейского романтизма // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести / отв. ред. В.М. Жирмунский. Л.: Наука, 1967. С. 249–284.
- Заломкина Г.В. Подходы к пониманию готического мифа // Вестник Самарского государственного университета. 2010. № 5(79). С. 178–184.
- Скотт В. Миссис Анна Радклиф // Радклиф А. Итальянец, или Исповедальня кающихся, облаченных в черное. M.: Ладомир, Наука, 2000. С. 341–368.
- Танасейчук А.Б. Восприятие творчества Амброза Бирса в России // Вестник Мордовского университета. 2003. № 3–4. С. 88–94.
- Тураев C.B. От Просвещения к романтизму. M.: Наука, 1983. 255 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста. 3-е изд. М.: Академия, 2009. 336 с.
- Bierce A. Can Such Things Be? New York: Boni & Liveright, 1918. 427 p.
- Karl F.R. A Reader’s Guide to the Development of the English Novel in the 18th Century. London: Thames and Hudson, 1975. 360 p.
- Morris R., Jr. Ambrose Bierce: Alone in Bad Company. Oxford: Oxford University Press, 1998. 306 p.
- Pattee F. A History of American Literature since 1870. New York: The Century CO., 1915. 449 p.
- Radcliffe A. On the Supernatural in Poetry // New Monthly Magazine. 1826. № 1. P. 145–152.
- Sage V. Empire Gothic: Explanation and Epiphany in Conan Doyle, Kipling and Chesterton // Creepers: British Horror & Fantasy in the Twentieth Century / ed. By C. Bloom. London: Pluto Press, 1993. P. 3–23.
- The Cambridge Companion to Gothic Fiction / ed. by J.E. Hogle. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 327 p.
- Woodworth S. The American Ways of Life, North and South // Cultures in Conflict: The American Civil War. Westport: Greenwood Press, 2000. P. 21–45.