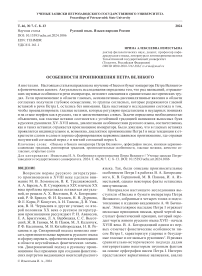Особенности произношения Петра Великого
Автор: Изместьева И.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья направлена на изучение «Писем и бумаг императора Петра Великого» в фонетическом аспекте. Актуальность исследования определена тем, что ряд написаний, отражающих звуковые особенности речи императора, не имеют освещения в сравнительно-исторических трудах. Если произношение в области гласных, ассимилятивно-диссимилятивные явления в области согласных получили глубокое осмысление, то группы согласных, которые разряжаются гласной вставкой в речи Петра I, остались без внимания. Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы проанализировать гласные вставки, которые регулярно представлены в неударных позициях и на стыке морфем как в русских, так и заимствованных словах. Задачи определены необходимостью объяснения, как гласные вставки соотносятся с устойчивой традицией написания выносных букв в русских рукописях XV-XVII веков, диалектными особенностями русского языка, соответственно, как в таких вставках отражается произношение императора. Было доказано, что в гласных вставках проявляется индивидуальное и, возможно, диалектное произношение Петра I в виде тенденции к открытости слогов в слове и хорошо сформированное церковнославянское произношение, где отражен полумягкий согласный перед е и мягкий согласный перед Ъ.
«письма и бумаги императора петра великого», орфография писем, книжная церковнославянская традиция, разговорная традиция, произносительные особенности, гласные вставки, качество согласных, открытые слоги
Короткий адрес: https://sciup.org/147244795
IDR: 147244795 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1086
Текст научной статьи Особенности произношения Петра Великого
Вопросам нормы русского литературного произношения в XVIII веке уделяли внимание М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский, А. А. Барсов, А. П. Сумароков; в XIX и начале ХХ века проблема продолжала оставаться актуальной, ее решали А. Х. Востоков, В. А. Богородицкий, Р. Ф. Брандт, Ф. И. Буслаев, Н. Н. Дурново, Ф. Е. Корш, Р. Кошутич, А. И. Томсон, Д. Н. Ушаков, В. И. Чернышев и другие ученые; со второй половины ХХ века о русском литературном произношении рассуждают Р. И. Аванесов, Е. А. Брызгунова, Л. А. Вербицкая, С. С. Высотский, Ж. В. Ганиев, М. В. Панов, М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова и др. Синхронный подход позволил описать произносительные варианты русского языка и сформулировать орфоэпические рекомендации в области неустойчивых фонетических элементов. Диахронический подход к русскому произношению был применен при создании фонетических портретов выдающихся носителей русского языка. Так, были описаны произносительные особенности Петра I в работах В. А. Богородицкого, К. В. Горшковой, М. В. Панова, И. А. Изместьевой, однако некоторые факты оставались неизученными.
Материалом настоящего исследования выступили «Письма и бумаги императора Петра Великого», собранные в четырех томах и подготовленные к изданию академиком А. Ф. Бычко-вым1. Эпистолярное наследие Петра I отражает несколько принципов письма, яркой чертой выступает фонетический принцип, который передает черты живого русского языка XVII – начала XVIII века. В. А. Богородицкий одним из первых отмечает фонетические особенности писем Петра I, характеризуя ударные и безударные гласные и согласные в рукописях2. В рамках сравнительно-исторического подхода дадим интерпретацию некоторым звуковым фактам на основе орфографии писем Петра I. Интерес представляют вариативные написания, анализ которых поможет ответить на вопрос о ярких произносительных особенностях императора.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Ряд орфографических привычек Петра I с точки зрения произношения не вызывает трудностей при объяснении. Например, аканье усматривается в вариативной передаче слов типа карабль [I т.: 27] и корабль [I т.: 18; II т.: 123; III т.: 71; IV т.: 62]; салдатъ [I т.: 32] и солдатъ [I т.: 21; II т.: 7; III т.: 9; IV т.: 5]; яканье проникло в написания слов типа имянно [III т.: 3], имяна [II т.: 65], в данном случае отмечается морфонологический принцип письма. Приведенные В. А. Богородицким примеры неударяемого а – «после мягкого согласного в ряде случаев отражается в виде е , напр. дес е ти (дважды) I, св е тейшему 124, об ъе вя войну 325, окт е бря 396, съв е зать 376, сенът е бря 17 <…> р е довыхъ 386, Е раславъл я 492»3 – указывают на екающее произношение Петра I.
Безошибочное использование Петром I буквы ѣ, отмеченное В. А. Богородицким, М. В. Пановым и другими учеными, отсутствие случаев закрепления на письме фонетического перехода [е > о] типа веревокъ , во всемъ [I т.: 16], пошелъ [IV т.: 75], путемъ [IV т.: 228], трехъ [IV т.: 199], чертежъ [I т.: 9], шелъ [IV т.: 179] и др. передают, с одной стороны, традицию книжного произношения и написания, с другой стороны, наличие полумягкого согласного перед [е] и мягкого согласного перед [ѣ] вы ѣ хали , д ѣ лахъ , д ѣ лъ , нужн ѣ йшихъ , Cв ѣ тлова , челов ѣ къ и др. [I т.: 21], хотя звук [’о] отражается в написании заимствованного слова при помощи лигатуры Г. Герералъ-Маiȏру [I т.: 22], Гвардіи Маіору Матюшкину [III т.: 42], маеору Корсоку [II т.: 69], также слов счотомъ [I т.: 3], ушолъ [II т.: 212], яснеосвечоному [II т.: 131, 132] и др. Петр I совершенно правильно употребляет букву ѣ, не путает ее с буквой е , что позволяет предполагать функционирование ѣ в речи императора и наличие мягких и полумягких согласных перед ѣ и е [3].
Фонетический переход [и > ы], как характерная орфоэпическая черта разговорного стиля, по-разному передан на письме: в’ыноземческихъ краехъ [II т.: 610], в’ыные времена [II т.: 247], в’ысподней [I т.: 5], в’ыюле, в’ыныя [I т.: 268], к’ыному [I т.: 6], с’Ываномъ [II т.: 568], с’Ывашкою [II т.: 620], с’ызнова [II т.: 168] и сыщемъ [I т.: 93], сыскать [II т.: 23], сыграли [II т.: 263], с’Ыльею Кобертомъ [II т.: 856], с’ыною почтою [II т.: 536] и др. Петр I использует в предложно-приставочных формах специальный надстрочный знак (похожий на современную запятую), который не указывает на мягкость согласного, а выполняет функцию пограничного сигнала, паузы4. Для Петра I фонетический переход [и > ы], ха- рактерный для разговорного стиля, соотнесен с традицией полного стиля произношения (которая не допускает перехода [и > ы]), поэтому так необычно на письме представлено произношение Петром I случаев [и > ы]: совмещается разговорное звучание на [ы] в предложно-приставочных формах с проявлением гортанного смычного согласного в’ысподней, к’ыному при тщательном произнесении, ср. разговорное слитное произнесение сыщемъ и книжное предъидущей веснѣ [II т.: 7].
В области согласных отмечена ассимиляция согласных по глухости-звонкости: збирать [III т.: 14, 70, 159] и сбирать [III т.: 67]; зд ѣ лать [III т.: 6], зд ѣ лал ь [III т.: 192], здѣ ланы [III т.: 360], зд ѣ лашь [III т.: 363] и сд ѣ лать [III т.: 58], обрас-цовое и образца [III т.: 234], постаѳь потъ страною [I т.: 3] и подъ образомъ [III т.: 6] и др.
В написаниях также представлены произносительные варианты, связанные с различными явлениями в группах согласных. Так, в письменной речи Петра I встречаются случаи упрощения групп согласных типа сонце [I т.: 9] и солнца [III т.: 61]; отмечено изменение групп согласных на стыке морфем: вынимаетца , останетца , при-лучатца , сойдетца [I т.: 5, 6] при сохранении [тс] кажутся [I т.: 79], опред ѣ лится [I т.: 92], попортятся [I т.: 40], сыщется [I т.: 55] и др.; изменение [сч >͞ ш’] прикащикомъ [II т.: 137], р ѣ щиковъ [II т.: 319], щетъ , о щет ѣ, щетами [I т.: 277, 279, 285, 286] и др.
В письмах отражена диссимиляция [чн > шн]: прибавашныя [I т.: 3], плотниш ъ ною снасть [I т.: 136], пушеш ъ ныхъ мастероѳъ, станош ъ ныхъ плотникоѳъ [I т.: 137], табашного мастера [IV т.: 29], у песошнаго острова [IV т.: 188] и отмечены случаи типа плотничною работою [III т.: 284], плотничная работа [IV т.: 209] и др. Петр I произносит только чътобъ , чъто [II т.: 3, 17, 73, 130, 158, 204], чьтобъ , чьто [II т.: 4, 5, 62, 83], конечь-но [II т.: 80, 126, 130, 139, 205], нарочьно [II т.: 82], мочьно [I т.: 266, 355] и др.; в таких случаях можно усматривать церковнославянское побуквенное произношение, которым, как известно, Петр I владел с детства.
Гиперкорректное написание отражает разговорное произнесение лексем гарнизон , лоцман , поручик , почта , прочих : гварнизономъ [II т.: 94], гварнизонъ [II т.: 155, 174] – гарнизонъ [II т.: 170]; лотцманоѳъ [II т.: 207]; потчтою [I т.: 144]; По-рутчику Морисону, Порутчикъ Вильбоа, По-рутчику Муханову, Порутчики : Торсонъ, Ладыженской, Подпорутчики : Золошаревъ и Головинъ и др. [III т.: 9, 70, 79]; протчихъ [II т.: 166], впрот-чемъ [II т.: 215] и др.5
Особый интерес представляет устойчивая письменная передача Петром I групп согласных.
Именно эти случаи ни разу не были проанализированы учеными, хотя на них обратил внимание М. М. Богословский, который и обнаружил необычную закономерность:
«Петр пишет по слуху, употребляя первую попавшуюся букву для того звука, который ему хочется изобразить. Буквы для него одинаково пригодны е и ѣ, i и и , в , ф и ϑ , и только к твердому знаку ъ он питает какую-то особую любовь, ставя его к месту и не к месту. Он пишет: “непъриятель”, “противъный”, “θъсѣх”, “полк Семеновъской” и т. д.»6.
Действительно, в речи Петра I группа согласных разделяется вставным ъ или реже ь в первом и втором предударном слогах: вик ъ то-риею , вик ъ торияхъ [II т.: 90, 93], въпреть [II т.: 94], глав ъ н ѣ иши [II т: 69], дап ъ лачивать [I т.: 3], к ъ р ѣ постию [II т.: 94], к ъ репости [II т.: 158], на Моск ъ в ѣ [II т.: 129], пок ъ рыта [II т.: 4], прош ъ- ла [II т.: 4], ш ъ ведоѳъ [II т.: 17], ѳ ъ с ѣ ми [II т.: 4], ѳ ъ сякихъ [II т.: 79], со ѳ ъ семъ , ѳ ъ сю [II т.: 80], во ѳ ь семъ [II т.: 86] – вс ѣ хъ [II т.: 87] и зак ъ ричали [II т.: 162], к ъ ругомъ [II т.: 154], прик ъ лючилися [II т.: 69], х ъ ранить [II т.: 5] и др.
Также гласная вставка между согласными наблюдается в заударном положении: быѳ ъ шихъ [II т.: 86], в (п) рибаѳ ъ ку [II т.: 4], всегдаш ъ нему [II т.: 119], вчераш ь него [II т.: 158], в ѣ ръную [II т.: 110], куп ъ но [II т.: 69], недав ъ но [II т.: 79], не-приступ ъ ною [II т.: 94], нынеш ъ нимъ [II т.: 110], Победыдаѳ ъ ца [II т.: 86], правъда [II т.: 94], пуш ъ- ками [II т.:155], ток ъ мо [II т.: 69], ум ѣ ш ь кать [II т.: 4, 83] и др.
Группа согласных вл , ѳл и другие согласные в сочетании с сонантом регулярно разряжаются гласной вставкой: г ъ ранатахъ [II т.: 309], до в ъ ремени [II т.: 255], долж ъ ны [II т.: 69], Лиѳ ъ ляндъ , Лиѳ ъ лянды , в Лиѳ ъ лянди , Лиѳ ъ ляндахъ [II т.: 17, 69, 72, 80] – въ Лиѳляндахъ [II т.: 95], остав ъ ляти [II т.: 69, 86], отправ ъ ленъ [II т.: 69], приготов ъ ление [II т.: 3, 5], продолъ-женъ [II т.: 90], п ъ рисяге [II т.: 310], с Ераслав ъ ля [II т.: 129], съ к ъ нязь Г ъ ригорьемъ , о Д ъ митрее [II т.: 312], с ъ мотреть , к ъ расокъ , ш ь ляпаш ь ных , сал ъ датамъ [II т.: 311] и др.
Гласная вставка в речи Петра I постоянно появляется в словах со стечением согласных на стыке морфем: Ареш ъ ку – Ор ѣ ш ь ку [II т.: 4], Виш ъ невец ь ково [II т.: 110], въ Сап ь скомъ [II т.: 309], Киев ъ ского [II т.: 126], Москов ъс кимъ [II т.: 136], не с ѣ к ъ ли [II т.: 3], Рамоданоѳ ъ скому [II т.: 245], с Алеξандроѳ ъ ской пристани [II т.: 83], Семеноѳ ъ скова [II т.: 4], Турец ъ кия , Швец ъ кия [II т.: 125] и др. В таком написании отражается словообразовательная структура слов.
Интересны случаи фонетического освоения заимствований, подчинение их тенденции к открытости слога: боцъмоноѳъ [I т.: 136], бумъбор- дира [I т.: 181], гъранатахъ [II т.: 309], елекъциею Польскою [I т.: 181], лоцъмоноѳъ [II т.: 82, 83], машъты [II т.: 230], неѳъти, неѳъть [II т.: 311], о шъколахъ [II т.: 310], опътеки [II т.: 137], сопъ-стракъцио [I т.: 3], Шъведахъ [II т.: 309], шъкъва-дры [II т.: 166], шълюпъ [I т.: 136], ѳълюгели, ѳърегатоѳъ [I т.: 136], ѳърунтомъ [II т.: 207], Θъранцию [II т.: 313], Янъ Θламъ – Θъламъ [I т.: 23] и др.
Встречаются случаи межслоговой ассимиляции гласных: мед е ныя зубы [II т.: 94], Таган а рожкiе [II т.: 244], цъв ѣ та поровону [I т.: 137] и др., в ряде написаний отражается ассимилятивная мягкость и твердость согласных: ес ь т ь- ли [I т. 339], М ъ с ъ к ъ ве [I т.: 185], м ь г ь л ѣ [I т.: 277], ос ъ т ъ ро [I т.: 190] и др.
Избыточное, по мнению М. М. Богословского, употребление Петром I ера в словах: верх ъ нею , в ъ зять , опос ъ ле [I т.: 1, 2], г ъ радусахъ , к ъ вадран-те , с ъ м ѣ рять , с ъ таѳь , с ъ толко , с ъ т ъ релять [I т.: 10], возмож ъ но [I т.: 8], в ъ сехъ [I т.: 7], нел ъ зя [I т.: 8], ниж ъ него [I т.: 6], с ъ мотри [I т.: 8], точ ь- ки [I т.: 2] и др. может получить фонетическое осмысление как явление индивидуального и диалектного характера. Например, В. А. Богородицкий так объясняет появление главной вставки в группе согласных:
«…некоторые лица недостаточно тесно сливают соприкасающиеся согласные, благодаря чему между последними слышится минимальный гласный, т. е. ъ или ь, напр. гър’еч’ ýшнъj , съмарóд’ьнӑ , къвар’т’ úрӑ и т. п.»7.
-
Е . А. Галинская обобщает наблюдения Р. Ф. Пауфошимы, Е. Г. Буровой, Л. Э. Кал-нынь, П. Г. Богатырева, В. М. Попова, Н. П. Грин-ковой, С. Л. Николаева о гласных вставках между согласными в русских диалектах, фольклорных песенных и былинных текстах и, описывая гласные вставки в рукописи делового содержания первой половины XVII века (старицкая кабацкая книга), приходит к выводу, что писец прислушивался к своему произношению и использовал букву ъ для обозначения краткого гласного звука в группе согласных. В старицкой кабацкой книге буква ъ (в которой нейтрализуется ъ и ь ) обозначает гласную,
«по-видимому кратких, редуцированных, которую выполняли много веков назад ъ и ь , хотя писцы XVII в., составляющие деловые документы, вряд ли могли знать об исконном фонетическом значении этих древних букв» [2: 85].
-
Е . А. Галинская приходит к выводу о звукобуквенном соответствии в тексте книги. Подобное употребление неэтимологического ъ отмечено в говорах юго-восточной зоны [7: 33].
Регулярное разряжение группы согласных гласной вставкой соотносится с вынесением согласного над строкой в этих группах согласных, что позволяет усматривать в таких вариантных написаниях подтверждение тенденции к открытости слога, например: возможъно – возможно [I т.: 8], выкълатъкѣ – выкълатки [I т.: 1, 2], Кюнинсбергъ – Кюнинсберъгъ [I т.: 150, 155], Мъсъкъве [I т.: 185] – Москъве [I т.: 150], нужъды [I т.: 194] – нуждою [I т: 215.], опътеки [II т.: 137] – оптѣкѣ [I т.: 149], отъсель – отсель [I т.: 150, 155], писъмомъ – письмо [II т.: 79] – писма [I т.: 215], простърано – пространо [I т.: 23] – просътран-нее [I т.: 208], салъдатамъ – салдатъ [II т.: 311, 312], съмотреть – посмотреть [II т.: 311, 313], сътрелцоѳъ – стрелцахъ [I т.: 251, 269], сътре-лять – выстрелятъ, выстрелоѳъ [II т.: 207], Та-ганърогъ – за Таганрогомъ [II т.: 202, 203] и др.8
Способ выражения открытости слога вариативен: с помощью выноса букв или написанием ъ или ь после согласного. О. В. Творогов перечисляет различные положения вынесенных согласных и слогов в русских рукописях XV– XVII веков (выносились конечные согласные слова; согласные перед согласным в середине и начале слова; буква д рядом с гласной; слоги ли , ми ; гласный и после гласной в конце и середине слова; аффикс ти в неопределенной форме глагола; буква г в окончаниях прилагательных и на конце наречий; буква ч , при этом следующая за ней гласная опускается; буква ж ; любая согласная перед необозначенным j ; буква с в составе возвратной частицы) и подчеркивает, что
«случаи вынесения связаны с опущением гласного, следующего за выносной, т. е. являются как бы чем-то средним между сокращением слова и рассмотренными выше случаями вынесения букв и слогов» [8: 164].
Вариантные написания в рамках тенденции к открытости слогов в случаях типа пис ь мо – пис ъ момъ [II т.: 79] – пи с ма [I т.: 215]; поч ъ ту [I т.: 16] – поч ь ты [II т.: 90] – по ч та [I т.: 156]; с мекал ь ной – смекал ъ ную [I т.: 3] – смека л ной [I т.: 5]; точ ь ки [I т.: 2] – точ ъ ками [I т.: 8]; ч ъ то [II т.: 17] – ч ь то [II т.: 62] – что [II т.: 80] и др. поднимают вопрос о качестве согласных по твердости-мягкости, хотя видно, что гласная вставка появляется рядом с твердым и мягким согласным. А. И. Соболевский отмечает, что
«старые русские писцы мало заботились об обозначении мягкости и твердости согласных в середине слов перед согласными, и даже в лучших московских рукописях XVII в. мы находим: во л ный, си л ный и др. (постоянно без ь после л )»9.
-
С . И. Котков подчеркивает, что в скорописных текстах XVII века порой трудно различить написание букв ъ и ь :
«…допускается применение двух-трех графических вариантов, которые одновременно функционируют и в качестве ъ и в качестве ь. <…> судить о мягкости шипящих и о мягкости аффрикат в подобных условиях возможно, опираясь прежде всего на факты написания после указанных согласных букв ю и я» [6: 7].
-
В . В. Каверина обращает внимание на тот факт, что в XVII веке книжная и приказная нормы не передавали качество согласного в середине слова:
«Написание одного слова или родственных слов может варьироваться в пределах одного номера или в соседних номерах церковной печати “Ведомостей” во львовъ – во лвовъ , в польши – полша , осмьдесѧтъ – пѧтдесѧтъ , пѧтьсотъ – пѧтдесятъ . В целом же написания с пропущенным ь преобладают, а начиная с 1709 г. мягкость в середине слова перестает обозначаться совсем в номерах как церковной, так и гражданской печати непрiѧтелски х, болшаѧ , четырми , болшой , кара-белщикъ , карабелный , неɣдоволникwвъ , началн ѣ йшие , неɣдоволнымъ , корабелнымъ , полскихъ , наиболшɣю , болшаго »10.
В письмах Петра I отдано предпочтение написаниям адмиралшею , болшой , карабелшикъ , не-болшее , Полша и др. (обнаружено около 194 форм во II т.) по сравнению с формами больше , большому , небольшому и др. (примерно 36 случаев передачи -льш- во II т.), аналогично преобладают написания - нш- : изъ Паншина , Коншинъ , Менши-ковъ , менши , меншихъ , меншой Бутурлинъ и др. (выявлено 75 случаев во II т.). Написания типа iзволте , болной , болше , весма , вредителные , д енги , доволную , корабелному , менше , многострадал-ном , нелзя , несколко , Николскихъ , печалны , писма , Полша , понеделникъ , сколко , спалной , стрелба , толко и др. не всегда получают объяснение, данное В. В. Колесовым. Ученый считает, что после утраты редуцированных первоначально фонетическая орфография, связанная с традиционными и символическими написаниями, приходит к морфологическому письму:
«…важны были не морфемы в единстве их написания (как в современной орфографии), а морфемы в единстве их произношения и написания (на письме отражались только различительные чередования фонем). <…> т. е. вольно при воля с обозначением мягкости, но силно при сила с обозначением твердости согласного корня» [5: 144].
Л. Э. Калнынь поднимает вопрос о времени отвердения мягких согласных в некоторых современных говорах в ряде слов « писмó , возмý Переясл.-Зал. (МДК, IX, стр. 79); писъмó – Унин. (ИЯз, III, 26), Егор. (Шах., стр.211), Касим. (Мат. В-р, VIII, 47); писъмó , васъмóй – Моск. (Черныш., XIII, стр. 165); писъмó , вазъмý , асъмнáтцать – Вер. (Черныш., X, стр. 369, 374)» [4: 208–209].
Если опираться на объяснение вариантных написаний слов в памятниках письменности и говорах, данное А. А. Шахматовым, А. И. Со- болевским, Н. М. Никольским, В. В. Колесовым, Л. Э. Калнынь и др., можно допустить, что в случаях типа: в прошъломъ [II т.: 165], вчерашьнего [II т.: 158], машъты [II т.: 230], письмо – писъмо [II т.: 79], пришъли [II т.: 130] – пошьли, дошьли, ушьли [II т.: 174], пушъками [II т.: 155], свобожъ-денъ [II т.: 205], чътобъ [II т.: 3] – чьтобъ [II т.: 4], чьто [II т.: 4] – чъто [II т.: 17], шьляпашьных [II т.: 311] и др. в речи Петра I (при его стремлении к открытости слогов в слове) имеет место нейтрализация вставных ъ и ь в краткий гласный неопределенного качества, который поддерживал качество согласного (при том, что отсутствовала практика в обозначении твердых и мягких со-гласных11).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, с одной стороны, в письмах Петра I при зависимости орфографии от произношения отражены типичные явления, которы- ми обладала произносительная система русского языка на пороге становления литературной нормы (аканье, еканье в области гласных, процессы ассимиляции и диссимиляции в группах согласных); с другой стороны, обнаружена такая особенность речи императора, как тенденция к открытости слогов в слове. Эту особенность произношения Петра I можно объяснить как диалектную черту или как артикуляционный навык, возможно, обусловленный литургической церковнославянской традицией, с которой Петр I был знаком, принимая участие в хоровом церковном пении. Подтверждают тенденцию к открытости слогов отмеченные нами особенности произношения типа [к’ыному]. Церковнославянским произношением объясняется и правильное функционирование в речи Петра I гласных е и ѣ, различение полумягких и мягких согласных.
Список литературы Особенности произношения Петра Великого
- Высотский С. С. Звуковые изменения, не влияющие на основные черты фонетического строя говоров // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М.: Наука, 1978. С. 67-130.
- Галинская Е. А. Нетривиальные орфографические особенности и их фонетическое значение в рукописи XVII в. // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2001. № 5. С. 80-86.
- Изместьева И. А. Орфоэпический портрет Петра I. // Язык - текст - дискурс: дискурсивное измерение языковых процессов: Сб. науч. ст. по материалам VIII междунар. науч. конф. /Отв. ред. Н. А. Илюхина. Самара, 2022. С. 128-136. EDN: OONJTQ
- Калнынь Л. Э. Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке // Ученые записки института славяноведения. Т. XIII. М.: Академия наук СССР, 1956. С. 121-225.
- Колесов В. В. Историческая грамматика русского языка: Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., испр. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр "Академия", 2013. 512 с.
- Московская деловая и бытовая письменность XVII века /АН СССР. Ин-т рус. яз.; Изд. подготовили С. И. Котков [и др.]. М.: Наука, 1968. 338 с.
- Русская диалектология: Учебник для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит". /С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, К. Ф. Захарова и др.; Под ред. Л. Л. Касаткина. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1989. 224 с.
- Творогов O. B. О выносных буквах в русских рукописях XV-XVII веков // Исследование источников по истории русского языка и письменности. М.: Наука, 1966. С. 162-175.