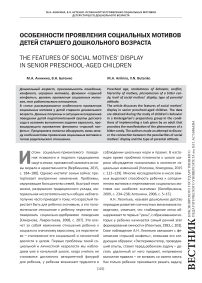Особенности проявления социальных мотивов детей старшего дошкольного возраста
Автор: Аникина Марина Анатольевна, Бутенко Вера Николаевна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Педагогическая психология
Статья в выпуске: 2 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности проявления социальных мотивов у детей старшего дошкольного возраста. Данные получены в ситуации исследования поведения детей подготовительной группы детского сада в условиях выполнения задания взрослого, провоцирующего проявление феномена «горькой конфеты». Предпринята попытка обнаружить связь между особенностями проявления социальных мотивов и типом родительского отношения.
Дошкольный возраст, произвольность поведения, конфликт, иерархия мотивов, феномен "горькой конфеты", уровень проявления социальных мотивов, тип родительского отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/144154276
IDR: 144154276
Текст научной статьи Особенности проявления социальных мотивов детей старшего дошкольного возраста
Preschool age, randomness of behavior, conflict, hierarchy of motives, phenomenon of a bitter candy, level of social motives, display, type of parental attitude.
The article discusses the features of social motives, display in senior preschool-aged children. The data are obtained during the study of children,s behavior in a kindergarten,s preparatory group in the conditions of implementing a task given by an adult that provokes the manifestation of the phenomenon of a bitter candy. The authors made an attempt to discover the connection between the peculiarities of social motives, display and the type of parental attitude.
И стоки социально-приемлемого поведения психологи и педагоги традиционно ищут в семье, призванной заложить основы морали и нравственности [Вербианова, 2015, с. 184–188]. Однако институт семьи сейчас претерпевает внутренние изменения. Проблемы, окружающие большинство семей, быстрый темп жизни, разрушение традиционного уклада, материальная несостоятельность и общее неблагополучие часто приводят к тому, что взрослый перестает быть для ребенка значимым, а его положительное отношение к ребенку перестает мотивировать социально-одобряемое поведение
[Смирнова, Лаврентьева, 2008, с. 207]. Это вле- чет за собой изменение отношения ребенка к социально значимому взрослому, а в перспективе – становление его социальной и личностной зрелости в целом. Первые проблемы такой социальной и личностной незрелости мы наблюдаем уже в начальной школе, когда учитель не становится достаточно авторитетной фигурой для ребенка, у ребенка возникают трудности в соблюдении школьных норм и правил. В настоящее время проблема готовности к школе широко обсуждается психологами в контексте социальных изменений [Колкова, Кокоурова, 2015 с. 121–129]. Многие исследователи в числе важных выделяют способность ребенка к соподчинению мотивов и переживанию социальных мотивов как наиболее значимых [Белобрыкина, 2009, с. 234–238; Алтунина, 2006, с. 5–15].
А.Н. Леонтьев, называя дошкольное детство периодом развития «личностных механизмов поведения», отмечает, что «наблюдение легко обнаруживает те первые “узлы”, с образованием ко- торых у ребенка начинается самый ранний этап формирования личности» [Леонтьев, 1983, с. 203].
Свое наблюдение А.Н. Леонтьев связывает с феноменом «горькой конфеты», описывая его следующим образом: «Экспериментатор, проводивший опыты, ставил перед ребенком задачу – достать удаленный от него предмет, непременно выполняя правило – не вставать со своего места. Как только ребенок принимался решать задачу,
ВЕСТНИК
экспериментатор переходил в соседнюю комнату, из которой продолжал наблюдение, пользуясь обычно применяемым для этого оптическим приспособлением. Однажды после ряда безуспешных попыток малыш встал, подошел к предмету, взял его и спокойно вернулся на место. Экспериментатор тотчас вошел к ребенку, похвалил за успех и в виде награды предложил ему шоколадную конфету. Ребенок, однако, отказался от нее, а когда экспериментатор стал настаивать, то малыш тихо заплакал» [Леонтьев, 1983, с. 203].
Таким образом, анализируя феномен «горькой конфеты» можно предположить, что ребенок отказался от конфеты, потому что испытывал «угрызения совести». Переживание неверно выполненного задания, получение незаслуженной награды – все это могло спровоцировать у ребенка внутренний конфликт, связанный с борьбой и соподчинением мотивов и свидетельствовать о том, что ребенок дошкольного возраста обнаружил способность действовать исходя из некоторых морально-нравственных норм.
Нужно подчеркнуть, что в тексте, описывающем феномен «горькой конфеты», ничего не говорится о том, что экспериментатор специально способствовал образованию внутреннего конфликта ребенка. Более того, обсуждая, что лежит за этим феноменом, А.Н. Леонтьев подчеркивает: «Как показывает наблюдение, в то время, когда ребенок доставал предмет, ситуация не переживалась им как конфликтная, как ситуация “сшибки”. Иерархическая связь между деятельностями обнаружилась только в момент возобновившегося общения с экспериментатором, так сказать, post factum: конфета оказалась горькой, горькой по своему субъективному, личностному смыслу» [Леонтьев, 1983, с. 203].
Понимая, что классическое проявление феномена «горькой конфеты» наблюдалось в одном конкретном случае и послужило опорой для построения некоторой теоретической концепции, связанной с обнаружением механизмов становления личности, мы решили узнать, будет ли наблюдаться феномен «горькой конфеты» у современных дошкольников? Стремятся ли они к выполнению социальных норм и соответствию ожиданиям взрослых? Готовы ли они выполнить задание взрослого, ориентируясь на заданное правило? Для получения ответов на эти вопросы мы исследовали 20 старших дошкольников, посещающих подготовительную группу в дошкольном образовательном учреждении. В исследовании приняли участие 12 девочек и 8 мальчиков из полных семей.
Каждому ребенку индивидуально предлагалось выполнить задание, согласно условиям, описанным в работе А.Н. Леонтьева, т.е. достать удаленный предмет (кубик) не вставая с места. Во время выполнения задания взрослого, работающего с ребенком, так же случайно вызывали из кабинета и ребенок оставался один. Возвращаясь, взрослый либо видел ребенка с кубиком, т.е. ребенка, выполнившего задание, нарушившего установленное правило, либо обнаруживал ребенка без кубика. В течение всего времени за детьми велось скрытое наблюдение, позволяющее зафиксировать картину поведения детей в отсутствие взрослого. По возвращении взрослый всегда хвалил ребенка и предлагал ему в награду большую шоколадную конфету. В первом случае за то, что ребенок выполнил задание взрослого. Во втором за то, что он не нарушил правило взрослого. Независимо от результата выполнения задания со всеми детьми велась беседа, направленная на уточнение мотивов их поведения. В результате мы обнаружили несколько типов поведения детей.
Дети, демонстрирующие первый тип поведения, оставались на месте до возвращения экспериментатора. Они говорили, что «кубик далеко и его нельзя достать, если не вставать с места». Некоторые дети при этом спрашивали, можно ли «допрыгать вместе со стулом» или «наклонять крышку стола, чтобы предмет приблизился», и может ли считаться ли такое решение правильным? Такое поведение свидетельствует о том, что ребенок удерживает условия задачи (заданное правило), а отношения со взрослым выстраивает как соответствующие установленной в обществе социально одобряемой норме – «взрослого надо слушаться», «правила поведения выполнять, потому что так договорились». Такой тип поведения мы наблюдали у 4 девочек и 1 мальчика (всего у 5 детей из 20). Еще раз подчеркнем, что по возвращении взрослый обязательно хвалил ребенка и в награду давал конфету. Дети первой группы конфету брали уверенно, связывая ее получение с тем, что они правильно себя вели, слушали взрослого и правильно догадались, что задание нельзя выполнить. Первый тип поведения мы соотнесли с высоким уровнем проявления социальных мотивов.
Второй тип поведения оказался показательным с точки зрения очевидности борьбы мотивов. Мы наблюдали его у 4 девочек и 3 мальчиков (всего 7 детей из 20) – они вставали, брали кубик, но потом, подумав, возвращались на место без кубика. Они также говорили о том, что кубик достать невозможно. При этом все девочки взяли конфету с некоторым сомнением, а все мальчики отказались, сказав, что они не выполнили правило. Первый мальчик пояснил, что он «подходил к кубику и хотел взять, а потом вспомнил, что это нельзя». Второй сказал, что это «будет нечестно». А третий мальчик ответил: «Потому что мне не хочется, и еще я вставал». Второй тип поведения мы назвали соответствующим среднему уровню проявления социальных мотивов.
Третий тип поведения мы связали с низким уровнем проявления социальных мотивов. В данном случае дети, оставаясь одни, вставали, брали кубик и садились на место, а при встрече с экспериментатором объявляли, что выполнили все, о чем просил взрослый, т.е. достали удаленный предмет. Это поведение мы обнаружили у 5 девочек и 3 мальчиков (8 детей из 20). Уточняющая беседа показала, в отсутствие взрослого, что они не обратили внимания на правило. Они также легко соглашались взять конфету, не придавая этому особого значения. Феномена «горькой конфеты» в данном случае мы не обнаружили.
Почему же поведение детей настолько различно? Мы считаем, что проявление социальных мотивов в поведении старших дошкольников может быть связано с типом родительского отношения, то есть той системой разнообразных чувств и поступков взрослых людей по отношению к детям, которое реализуется в семье.
Это педагогическая социальная установка, которую можно оценить с помощью теста А.Я. Варги и В.В. Столина [Тест..., 2001, с. 144–152]. Еще раз подчеркнем, что все дошкольники, участвующие в нашем исследовании, были из полных семей. На вопросы теста «Родительское отношение к детям» нам ответили 20 матерей, хотя это специально не оговаривалось и отвечать мог любой из родителей. В итоге мы не можем однозначно сказать, учитывалось ли мнение отцов при ответах.
Сопоставив данные, полученные по тесту А.Я. Варги и В.В. Столина «Родительское отношение к детям», с результатами наблюдений мы выявили, что типы поведения дошкольника, характеризующиеся высоким и средним уровнями проявления социальных мотивов, наблюдаются у тех детей, матери которых демонстрируют эмоционально положительное отношение к детям (высокие баллы по шкале «Принятие-отвержение»), стремление к сотрудничеству, проявление заинтересованности и участия в делах детей (высокие баллы по шкале «Кооперация»). Отношение таких матерей не является авторитарным, они не требуют от детей безоговорочного подчинения, а предпочитают осуществлять разумный контроль и верить в успешность ребенка в будущем (средние баллы по шкале «Контроль»).
Матери детей, тип поведения которых свидетельствует о низком уровне проявления социальных мотивов, демонстрировали средние баллы по шкале «Принятие-отвержение», низкие баллы по шкале «Контроль» и высокие баллы по шкале «Симбиоз», в целом означающие некоторую бесконтрольность поведения ребенка, отсутствие психологической дистанции между ребенком и взрослым, стремление удовлетворять потребности ребенка.
Таким образом, можно отметить, что у современных старших дошкольников может наблюдаться высокий уровень проявления социальных мотивов, связанный с выполнением правил, заданных взрослым в ситуации выполнения задания. Такой тип поведения продемонстрировали 5 детей из 20 – это 4 девочки из 12 и 1 мальчик из 8.
ВЕСТНИК
Поведение большинства испытуемых показывает, что в отсутствие взрослого, они не могут преодолеть непосредственные побудительные мотивы или не удерживают правила, установленного взрослым. Такой тип поведения наблюдался нами у 9 девочек и 6 мальчиков. При актуализации задания, получив незаслуженную награду, переживаний, связанных с проявлением феномена «горькой конфеты», дети явно не проявляют. Однако подчеркнем, что 4 девочки взяли конфеты с некоторым сомнением, а 3 мальчика оказались способны открыто обсуждать условия своего взаимодействия со взрослым и не согласились брать конфету незаслуженно.
В целом наше предположение о том, что особенности проявления социальных мотивов в поведении дошкольников могут быть связаны с типом родительского, точнее, материнского отношения к ребенку, подтвердилось. Однако понимание того, чье отношение – отца или матери – влияет на проявление социальных мотивов в поведении мальчиков и девочек требует изучения и может представлять перспективу дальнейших исследований на репрезентативной выборке с выявлением значимых корреляций.
Список литературы Особенности проявления социальных мотивов детей старшего дошкольного возраста
- Алтунина И.Р. Развитие мотивов и мотивации социального поведения у детей дошкольного и младшего школьного возрастов//Психологическая наука и образование. 2006. № 2.
- Белобрыкина О.А. Взаимосвязь иерархии мотивов с позицией децентрации личности в структуре психологической готовности ребенка к обучению в школе//Мир науки, культуры и образования. 2009. № 6.
- Боякова Е.В. Особенности развития современного ребенка//Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2011. № 1. URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/boyakova_07_03_2011.pdf
- Вербианова О.М. Развитие способности к саморегуляции детей дошкольного возраста в социальном пространстве семьи//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 2. С. 184-188.
- Колкова С.М., Кокоурова М.С. Особенности готовности к школьному обучению детей группы кратковременного пребывания в ДОО//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 2.
- Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. М., 1983. Т.2. 320 с.
- Смирнова Е.О., Лаврентьева Т.В. Дошкольник в современном мире. М.: Дрофа. 2008. 272 с.
- Тест родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин)//Психологические тесты/ред. А.А. Карелин. М., 2001. Т. 2.