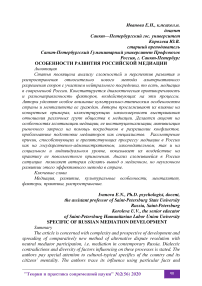Особенности развития российской медиации
Автор: Иванова Е.Н., Королева Ю.В.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2 (56), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сложностей и перспектив развития и распространения относительно нового метода альтернативного разрешения споров с участием нейтрального посредника, то есть, медиации в современной России. Констатируется диалектическая противоречивость и разнонаправленность факторов, воздействующих на эти процессы. Авторы уделяют особое внимание культурально-типическим особенностям страны и менталитета ее граждан. Авторы прослеживают их влияние на конкретных примерах, иллюстрирующих закономерности выстраивания отношения различных групп общества к медиации. Делается акцент на особенностях легитимации медиации, ее институционализации, активизации рыночного запроса на помощь посредников в разрешении конфликтов, проблематике подготовки медиаторов как специалистов. Рассмотрение причин, способствующих и препятствующих прогрессу медиации в России как на государственно-административном, законодательном, так и на социальном и индивидуальном уровне, показывает их воздействие на практику ее повсеместного применения. Анализ сложившейся в России ситуации позволяет авторам сделать вывод о медленном, но неуклонном развитии этого эффективного метода в стране.
Медиация, развитие, культуральные особенности, менталитет, факторы, практика, распространение
Короткий адрес: https://sciup.org/140275281
IDR: 140275281 | УДК: 38.49
Текст научной статьи Особенности развития российской медиации
Медиация как сфера деятельности и профессия имеет ряд отличительных черт. Прежде всего, это ее относительная новизна. Она приводит к нестабильности представлений о медиации, при этом даже в профессиональном сообществе, где есть сторонники медиации в широком смысле (включающем допустимость осуществления юридической экспертной функции, использование техник психологического консультирования и психотерапии) и приверженцы соблюдения классической фасилитативной модели медиации как единственно верной.
К сожалению, в стране наблюдается почти полное отсутствие статистики по практике применения медиации и мало сведений о результатах медиации. Возможно, в реальности практика намного шире, чем известно, так как принцип конфиденциальности медиации, отраженный в законе, позволяет ее участникам не разглашать даже сам факт ее применения. Тем не менее, имеющиеся статистические отчеты, а также данные по распространенности медиации в судебных органах, приводимые в Постановлениях ВС РФ, свидетельствуют о неуклонном, хотя и медленном, развитии медиации.
В каждой стране есть свои особенности развития и применения медиации, начиная от правил подготовки медиаторов, требований к медиатору, областей применения, обязательности применения процедуры и т.д. В нашей стране происходит адаптация западных образцов технологии к специфическим условиям российской действительности. Неоднозначность отношения к западным веяниям, от полного отрицания до имплементации отдельных положений в законодательные акты также осложняет развитие медиации.
Согласно параметрам классификации Хофстеде, российская культура скорее фемининная, женская, высококонтекстная, коллективистическая, с большой дистанцией власти. Об этом свидетельствуют важность отношений, значимость эмоций, ориентация на процесс, а не на результат, предпочтение относительного равенства, осуждение индивидуализма и ориентации на личные достижения и карьеру, на богатство, вольное отношением ко времени, общение не напрямую, а на уровне намеков и многие другие параметры. Эти факторы часто присутствуют имплицитно, то есть, подспудно, неосознанно или слабо осознаваемо для самих сторон. Соответственно, часто их непосредственное проявление у одной из сторон для нее самой выглядит рационально, а второй стороной конфликта воспринимается как намеренное желание причинить ущерб и порождает желание нанести ответный удар.
Таким образом, культуральные особенности российского менталитета, с одной стороны, кажутся чрезвычайно благоприятными для широкого внедрения медиационной технологии, а с другой стороны, оставляют место для противоречивости в отношении к ней и реализации планов ее распространения. Именно это и наблюдается в практической деятельности медиаторов.
Так, например, наиболее развитой является семейная медиация, для большинства судей и самих разводящихся пар очевидно, что формальная и негибкая суть судебного процесса не оставляет места и возможности для работы с эмоциями и учета нюансов взаимоотношений членов семьи, что делает медиацию очень уместной для действительного и прочного разрешения конфликта. В то же время в практике разрешения семейных споров особенно ярко проявляется гендерная асимметричность российского законодательства. Так, анализ судебной практики дает однозначный ответ -дети практически всегда остаются с матерью. Это уменьшает желание женщин договариваться с бывшими супругами и идет в ущерб детям и отношениям в семейной системе. Прочные семейные связи при этом не транслируются будущим поколениям, формируется слабая отделенность от одного из родителей, как экономическая, так и психологическая.
История развития медиации в РФ отмечается редкими всплесками законодательной активности. Первые медиаторы были подготовлены и начали работать в Санкт-Петербургском Центре разрешения конфликтов в самом начале 90-х годов прошлого века. Тем не менее, закон о посредничестве как альтернативном способе разрешения споров (193-й Закон о медиации) был принят только в 2010 году и вступил в силу с 2011 года. Для сравнения, в Норвегии, например, закон о медиации был принят через 2 года после первого появления медиации в стране.
Кроме того, принятие закона не повлекло за собой дальнейшего подзаконного обеспечения. Следующие изменения были внесены только в 2019 году. Таким образом, медиация в России старше, но развита намного слабее, чем во многих странах, в том числе, и на постсоветском пространстве, где она широко внедрена и обеспечена господдержкой вплоть до введения обязательной медиации в ряде сфер.
До настоящего времени внимание законодателя к альтернативным способам разрешения споров часто ограничивается общими формулировками при отсутствии подзаконных актов. Есть неопределенность и несогласованность принимаемых законодательных актов (в частности, приставы не могут прекратить исполнительное производство при предъявлении медиативного соглашения, удостоверенного нотариусом). До сих пор нет поддержанной законодательно системы встраивания деятельности медиаторов в судебную практику, нет алгоритма взаимодействия, который бы позволил повысить эффективность применения медиации, в частности, за счет ее предложения сторонам судьями.
Здесь наблюдается еще одна типичная черта российской культуры – тенденция к «недоделанности» по принципу «самое постоянное – это временное». В ответ на многочисленные предложения по усовершенствованию 193 Закона еще до его принятия прозвучал ответ: «Лучше такой закон, чем никакого. Доделаем потом».
Российскому менталитету исторически свойственна склонность к крайностям, некоторая раздвоенность. Еще Достоевский писал о том, что для России характерно наличие праздничной, парадной нравственности и будничной, повседневной, которые радикально различаются между собой. С такой раздвоенностью мы сталкиваемся и в сфере самой медиации, и в отношении к ней. Традиционализм соседствует с тенденцией «до основанья, а затем…».
Последние изменения в законодательстве расширили сферу применения медиации, в частности, появилась возможность использовать примирительные процедуры при рассмотрении административных дел. Тем не менее, в отличие от других стран, в России конфликты в ряде сфер, например, связанных с налоговыми спорами, коллективными трудовыми спорами, уголовными делами, не подлежат рассмотрению с помощью медиации по закону.
Существует противоречивость законодательной деятельности, потребностей и возможностей практики. Еще до принятия 193 ФЗ РФ петербургские медиаторы успешно решали многие конфликты, впоследствии исключенные законом из сферы действия медиации. Сюда можно отнести, например, коллективные трудовые споры, легкие уголовные дела и пр. На данный момент уголовные дела недоступны для применения медиации в РФ, хотя в Казахстане и Белоруссии это возможно. В крупных экономических конфликтах определяющей является часто политическая составляющая, и вопрос решают другие органы другими методами. Проблема реальных полномочий сторон также по-прежнему актуальна.
В нашей культуре отмечается также двойственность отношения к документам. С одной стороны, документы крайне важны, «без бумажки ты букашка», без них человек не может чувствовать себя в безопасности, а с другой стороны, им не верят, воспринимают их как «отмазку», формальное, нереалистичное отражение того, что происходит на самом деле. Страх документов соседствует с безоговорочным подчинением документам. Порой это порождает трудность заключения соглашений об участии в медиации.
Нередко наблюдается преобладание формальной отчетности над реальными действиями по внедрению медиации. У вышестоящих существует большое доверие отчетам, меньшее - свидетельствам участников. В то же время идти против течения – большой риск.
Так, требование внедрения медиации в школу без предоставления каких-либо ресурсов на организацию и развитие школьных служб примирения привело к расхождению отчетов и практической реализации. Требование отчетности прежде всего приводит к склонности к припискам, демонстрации хороших показателей как самоцели, что дискредитирует медиацию. За внедрение школьной медиации школы должны были отчитаться и уже отчитались, хотя многие из них даже не знают толком, что это или считают неприемлемой.
Многие руководители и специалисты из разных сфер деятельности, как производственной, коммерческой, так и образовательной жалуются, что им некогда работать с людьми, время уходит на бюрократические требования. Суды перегружены катастрофически. В арбитраже по 50 дел в день у одного судьи. Казалось бы, это очень благоприятная среда для медиации. Однако нередко и руководители, и специалисты предприятий и школ, и судьи воспринимают медиацию как обузу, требующую тратить время, которого и так не хватает.
Для России характерна большая зависимость от вертикали, без поддержки сверху не продвинуться. Об этом свидетельствуют ка препятствия, так и положительный опыт внедрения медиации. В частности, история развития медиации в петербургских судах. Юридическая основа для применения медиации в судебных делах в виде возможности примирения сторон изначально существовала в российских Кодексах, но не было конкретного указания именно на медиацию, более того, не было прямой рекомендации судьям предлагать ее сторонам.
Первые судебные случаи были эффективно разрешены петербургскими медиаторами в 1998, затем эта практика затихла, так как опиралась на риск и энтузиазм 1-2 судей. И только в 2008 был предпринят широкий эксперимент по внедрению медиации в мировых судах, а впоследствии и в остальных при поддержке Судебного департамента Санкт-Петербурга, то есть, «сверху». С другой стороны, можно отметить уникальность ситуации, состоящую в том, что судебный департамент разрешил медиаторам работать в судах задолго до принятия закона о медиации.
В России без распоряжения или хотя бы рекомендации сверху медиация нигде не развивается. Все держится на личных связях с руководством, и если медиаторы умеют наладить контакт с ним, то результаты могут быть превосходными. Однако из-за спайки личного аспекта с административным, даже если усилия «снизу» позволяют достичь результатов, нередко они отметаются и не признаются, как только к власти приходит другая команда. Сама система не является благоприятным для медиации фоном.
Несмотря на обилие программ и освоения грантов по развитию и продвижению медиации, в настоящее время информированность в области медиации, как в обществе, так и в среде специалистов по работе с людьми (от суда до педагогов), остается недостаточной. Наличествует тенденция типа: «Не читал, но осуждаю». С другой стороны, имеют место искаженные или завышенные ожидания, и, как только они не сбываются, то сменяются огульным отрицанием медиации вообще.
Неоднократно в российском медиаторском сообществе отмечалась склонность к «монархизму», единовластию. Неоднократные и временно небезуспешные попытки возглавить всю медиацию в стране, отрицая, что вообще где-то что-то было «до них» и есть сейчас, наносят существенный вред медиации. Недооценка и игнорирование достижений и опыта медиаторов в разных регионах недопустимо, необходима, напротив, демократичная и творчески продуктивная интеграция усилий специалистов-медиаторов.
Практическая медиация началась с деятельности небольшой группы, преимущественно состоявшей из заинтересованных психологов, через некоторое время примкнувшие к ней юристы и экономисты предпочли более выгодные для них формы профессиональной деятельности. Медиация была органично воспринята, так как была близка к психокоррекционной работе и уже хорошо знакомой деятельности специалистов по организационному развитию. До сих пор самый востребованный вид медиации в стране – семейная, прежде всего – при разводе. Школьная медиация в последние годы также показывает свою перспективность.
В полном соответствием с российской культурой, самый распространенный и благоприятный источник клиентов с одной стороны, -это «сарафанное радио», а с другой стороны, – настойчивая рекомендация сверху (например, судьи). Хорошо работают налаженные личные контакты с представителями нужных структур. Прямая массовая обезличенная реклама работает слабо, обычно приводит к неадекватным обращениям. Интересные перспективы открывает задействование Интернет-ресурсов, дающих возможность сочетать массовость и индивидуальный подход.
После принятия закона произошел активный приток юристов в медиацию. Сегодня большинство медиаторов – либо юристы, либо психологи, кроме того, это экономисты, педагоги, руководители, люди других помогающих профессий. Медиация - межпредметная область, и это обеспечивает многие преимущества. Так, ко-медиация (например, совместная работа юриста и психолога в качестве медиаторов) позволяет разрешать весьма сложные споры. Однако в междисциплинарности есть и обратная сторона. Так, не утихают попытки ограничить возможность профессиональной медиации либо юристами, либо рассматривать медиацию как часть психотерапии. Можно слышать призывы, например, запретить заниматься медиацией всем, кроме юристов.
В деятельность многих специалистов наблюдается склонность к тому или иному виду директивности, от запугивания до "причинения добра" и легкость отхода от базовых принципов нейтральности при оправдании, что иначе на практике - никак. Адаптация к потребностям клиентов иногда доходит до «прогибания» перед неконструктивными запросами клиентской сферы, замещая главную стратегию медиации – сотрудничество - стратегией неконструктивных уступок. Размежевание медиаторских школ. (много сходного с мировой практикой, только медленнее).
Медиация (как и третейский суд, суд присяжных и другие нововведения в практике) легче приживаются на окраинах, труднее всего – в Петербурге и Москве. За счет активных усилий медиаторов и большого количества жителей/предприятий в Петербурге практика самая широкая в России. Быстрее, чем в России, медиация стала внедряться на постсоветском пространстве – на Украине, в Белоруссии и Казахстане.
К благоприятным факторам развития медиации можно отнести тесные контакты и сотрудничество медиаторов стран постсоветского пространства. Многие ведущие медиаторы Белоруссии и Казахстана учились в Санкт-Петербурге и в настоящее время активно взаимодействуют с родной «школой».
Это особенно активно проявляется в последние годы, когда проводятся конференции, фестивали по медиации по актуальным темам развития и применения медиации, а также студенческие конкурсы по медиации и переговорам.
С другой стороны, по сравнению со многими странами на постсоветском пространстве Россия находится в позиции догоняющего по развитию законодательства, области применения, информированности населения и доступности для него медиации.
Замедляет развитие медиации и то, что у потенциальных клиентов нет сформированного образа медиатора и понимания пользы от него. Сторонам понятно, за что платить эксперту, а «за что платить медиатору, если, как он говорит, мы сами все решаем», неясно. Кроме того, многие «постсоветсткие» медиаторы, особенно старшего возраста, и сами испытывают трудности с тем, чтобы брать «со страдающих людей» деньги.
Есть проблемы и с качественной подготовкой медиаторов: сначала была предпринята попытка централизации и четкой формализации требований к квалификации и способам подготовки медиаторов. Она оказалась недостаточно продуктивной, и введенный в 2011 году образовательный стандарт трехступенчатой подготовки медиаторов был отменен в 2015 году, а новых документов, регламентирующих подготовку медиаторов, не появилось. Предложенные на государственном уровне курсы обучения медиации были продолжительны, по времени они составляли не менее 120 часов, а полный цикл длился более 500 часов.
На сегодняшний день наиболее распространенным на практике с оглядкой на начальные нормативы является базовый курс подготовки медиаторов от 120 до 168 часов. При этом в Интернете еще даже до отмены норматива активно рекламировались базовые курсы подготовки за 4-6 дней с выдачей документов о праве работать медиатором профессионально. Сейчас в результате отсутствия конкретных требований можно встретить и онлайн обучение медиаторов за 24 часа. Обучение нередко ведут преподаватели, сами не имеющие опыта проведения ни одной реальной медиации. В результате плохо подготовленные медиаторы дискредитируют профессию и искажают сущность технологии.
Обращение специалистов к медиации как способу иметь значительный заработок присутствует у многих поступающих на обучение, так как вход в профессию относительно недорогой и время, необходимое для получение заветных корочек о прохождении курсов, дающих право заниматься профессиональной деятельность - медиацией - составляет небольшие сроки. Однако прежде, чем медиатор сможет зарабатывать на проведении переговоров, требуется отдать дань бескорыстному служению медиации в течение ряда лет. До сих пор оплата медиации – проблема.
Нередко приходящие на подготовку в качестве медиатора имеют завышенные нереалистичные ожидания, прежде всего, в отношении заработков после получения права на профессиональную работу. Столкновение с реалиями рынка порождает разочарование вплоть до полного отрицания возможностей медиации.
Трудность практического внедрения медиации в бизнесе в большой степени связана с сопротивлением юристов, являющихся представителями по делу в суде. Опасения юристов по поводу возможной потери заработка имеют под собой основания - при презентации медиации речь идет о снижении расходов сторон на урегулирование спора, в том числе, и на оплату представительства в суде.
Особенно сложно медиация вписывается в бизнес. Исторически представители бизнеса имеют склонность к силовому способу решения спора как к более надежному варианту. По оценкам зарубежных партнеров, особенность российских переговорщиков – склонность к достижению быстрых результатов и нежеланию рассматривать долгосрочные последствия договоренностей, направленных на быстрые результаты. Предпочтение тактики, а не стратегии поддерживается объективными условиями: нестабильностью курсов валют, ограниченной возможностью сотрудничества с зарубежными партнерами (санкции и антисанкции последнего времени для многих бизнесменов весьма чувствительны), иногда непредсказуемостью действий правительства и силовых органов.
Весьма распространено недоверие как форма отношений в обществе -как правительству, так и медиаторам. Парадоксальная, но понятная готовность оплачивать работу юристам годами сочетается с желанием наказать, отомстить, доказать свою правоту, при этом рациональная экономическая составляющая может не рассматриваться.
Существует опасение коррупции в медиации – нелогично, если медиаторы недирективны. Отсутствие доверия к соблюдению медиаторами продекларированных ими принципов, тем не менее, делает это опасение более обоснованным. К сожалению, это недоверие порой подпитывается и практикой некоторых медиаторов. Останавливает от участия в медиации или делает процесс неэффективным также и недоверие партнерам, затрудняющее раскрытие необходимой информации, интересов сторон. Верна также и противоположная ситуация – нежелание документально оформлять деловые отношения, особенно в случае, когда бизнес ведут друзья или родственники. Начальная установка «Мы же свои люди», отсутствие четких договоренностей, впоследствии приводит к самым жестким конфликтам. Ощущение предательства порождает желание наказать, отомстить даже в ущерб себе – зато ему-то будет еще хуже!
Высокий размер судебной пошлины и дорогое судопроизводство при обращении в суд для рассмотрения экономических и других споров являлся благоприятным фактором для развития медиации в ряде стран. В РФ очень низкие судебные пошлины, и сопоставление стоимости судебного процесса часто делает медиацию относительно дорогой в глазах клиентов. Например, в нашей стране очень дешевый развод, его процедура может казаться очень простой. Только столкнувшись с затяжным характером судебного рассмотрения, которое может тянуться годами, и неудовлетворенность либо самого решения, либо трудностью его реализации, стороны понимают, что им неплохо бы договориться «полюбовно».
По мнению многих – от судей до бизнесменов и медиаторов – главное, за что бьются стороны – справедливость. Это хорошая основа для медиации, но часто требует больше времени и глубины, чем предоставляется обстоятельствами. Медиатору необходимо быть очень гибким и ассертивным, конструктивно настойчивым, реалистично оптимистичным.
Таким образом, мы рассмотрели ряд особенностей развития российской медиации как отражение культуры страны и менталитета ее граждан – потенциальных клиентов специалистов-медиаторов. Обнаруживается существование противоречия между объективной и естественной культуральной потребностью в медиации и трудностью ее широкого распространения в России. И в полном соответствии с российской культурой работает еще один парадокс – несмотря ни на что медиация растет и развивается. Хотелось бы быстрее. Но нам, медиаторам, в помощь российская особенность – терпение. Долго запрягают, зато…