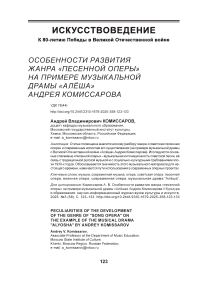Особенности развития жанра «песенной оперы» на примере музыкальной драмы «Алёша» Андрея Комиссарова
Автор: Комиссаров А.В.
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 3 (58), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена аналитическому разбору жанра «советская песенная опера» и современным аспектам его существования (на примере музыкальной драмы о Великой Отечественной войне «Алёша» Андрея Комиссарова). Исследуются основные слагаемые «песенной оперы» – музыкальная интонационность советской песни, её связь с традиционной русской музыкой и с социально-культурными требованиями эпохи 1930‑х годов. Обосновывается значимость этого музыкального материала для настоящего времени, намечаются пути использования в современных оперных проектах.
Музыка, современная музыка, опера, советская опера, песенная опера, военная опера, современная опера, музыкальная драма “Алёша”
Короткий адрес: https://sciup.org/144163582
IDR: 144163582 | УДК: 78(44) | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-358-123-133
Текст научной статьи Особенности развития жанра «песенной оперы» на примере музыкальной драмы «Алёша» Андрея Комиссарова
«Опера закончилась как жанр, поскольку люди потеряли вкус к мелодии и готовы терпеть музыкальные композиции, не содержащие ничего мелодического»,- заметил в одном из писем более ста лет назад великий итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини. Несмотря на полемическую заостренность этой фразы, несмотря на то, что с высоты уже даже не ушедшего двадцатого, а вполне себе уверенно идущего в неведомое века двадцать первого мы можем констатировать, что успешные и популярные оперные проекты создавались и после Пуччини; нельзя не признать: оперный жанр за последние сто лет претерпел такие трансформации, столкнулся с такими вызовами, которые не раз ставили его дальнейшее существование под вопрос [9]. Среди множества этих вызовов необходимо отметить следующие.
-
1. Исторические катаклизмы, случившиеся в XX веке: две мировые войны, революции, гражданские войны, громадное количество относительно небольших, но исключительно кровавых конфликтов. Весь этот век беспрецедентного по своим масштабам насилия подорвал веру в высокие гуманистические идеалы, которые часто питали собой сюжеты и образы классической «большой» оперы (личный любовный выбор героев, судьба героев на фоне судеб наций и народов). Традиционные оперные сюжеты, специфически оперные музыкальные средства выражения – романтически возвышенная мелодическая патетика, традиционное пение бельканто – всё это стало казаться устаревшим, неуместными, иногда даже кощунственными перед лицом пережитых ужасов реальности. Известна фраза одного из поэтов, сказанная после Первой мировой войны: «И как же теперь писать стихи»? В полной мере она может быть перенесена и на оперный жанр.
-
2. Опера потеряла свою прежнюю социально-экономическую почву: в мире произошло своеобразное «перераспределение» культуры. Если ранее она была сконцентрирована своеобразным «толстым слоем» на очень ограниченном числе людей (прежде всего это богатая аристократия,
-
3. Торжество новых специфических авангардных техник во всех видах искусства – усложненность гармонических средств, позднее – атональность, додекафония в музыке (Штраус, Стравинский, Барток, Шёнберг, Берг, Веберн, Прокофьев, Шостакович, Онеггер), экспрессионизм, сюрреализм, абстракционизм, модернизм в других видах искусств – всё это стало требовать от оперы новых форм и смыслов. Традиционная оперная структура и форма (даже в её пост-вагнеровском изводе), неизбежные оперные условности – всё это стало восприниматься многими как нечто устаревшее, искусственное. Возник вопрос: является ли опера вообще современным искусством?
-
4. Конкуренция со стороны новых видов искусств: появление и стремительное развитие кино, радио, телевидения, расцвет мюзикла предложили зрителям новые, динамичные, технологически более продвинутые и доступные формы музыкально-драматического зрелища. Опера – с ее дороговизной постановок, упоминаемой ранее условностью, необходимостью узкоспециальных музыкальных познаний у публики (свободное ориентирование в музыкальных языках, традициях, национальных особенностях музыки) – начала ещё более терять аудиторию. Одним из первых жанров академической музыки она стала своеобразным «элитарным» музыкальным музеем-заповедником.
позднее – буржуазия) и «толщина» и «насыщенность» этого «культурного слоя» позволяли им воспринимать такое сложное искусство как опера, то в двадцатом веке, в связи со всеобщим распространением и доступностью образования, этот общий «культурный слой» человечества оказался, подобно маслу на слишком большом куске хлеба, «размазан» уже по очень большому количеству вновь приобщившихся к культуре людей. Для большинства из них опера стала искусством сложным и недоступным.
Таким образом, несмотря на, казалось бы, широкую популярность жанра в XX и XXI веках, несмотря на громадное количество вновь построенных оперных театров, вновь набранных оперных трупп, опера попала в ситуацию бесконечного (а вспоминая, с одной стороны – Пушкина, с другой – новации многих современных оперных режиссеров, хочется ещё добавить «бессмысленного и беспощадного») повторения шедевров XVIII–XIX веков, новые оперы, хотя и писались, но лишь считанные единицы из них смогли войти в репертуар мировых оперных театров на правах своеобразных «бедных родственников», не имеющих большого влияния на общую рентабельность процесса. В этой связи можно отметить оперное творчество Берга, Бартока, Стравинского, Шостаковича, Онеггера и многих других великих композиторов XX-го века. Некоторым особняком стоят имена Прокофьева [3] и Бриттена: их оперные произведения ставятся чаще и известны в музыкальном мире как будто бы чуть больше. Отдельное явление – американский композитор Джордж Гершвин. Его знаменитая опера
«Порги и Бесс», благодаря опоре на современный ей джазовый музыкальный язык, стала ярчайшим событием в оперном театре, но этот многообещающий путь не получил дальнейшего значимого продолжения – возможно, из-за ранней смерти автора, а возможно из-за того, что джаз (также как и академическая музыка ранее) быстро стал искусством сугубо элитарным и «закрытым».
Одним из путей преодоления этого кризиса оперы стало появление в СССР в 30-е годы своеобразного нового жанра: «песенная опера». Понятие "советская песенная опера" упоминается в трудах музыковедов [1; 4; 6; 11], занимавшихся в том числе и исследованием этого специфического явления в истории советского музыкального театра 1930-х-1950-х годов. Это уникальный гибридный оперный жанр, возникший на перекрестке социального заказа и искреннего желания композиторов говорить понятно и просто – создать своеобразное оперное "искусство для народа". Суть песенной оперы – в слиянии традиционной оперной формы и структуры с мелодикой массовой советской песни. Всё это неотделимо также и от задач, ставившихся перед авторами принципами социалистического реализма, господствующими тогда в искусстве [12].
Надо сказать, что рождение песенной оперы было предопределено самим духом предвоенной эпохи. После революционных авангардных экспериментов 1920-х и последовавшего разгрома "формализма" в музыке в 1936 году (знаменитая статья "Сумбур вместо музыки" в газете "Правда" о Шостаковиче) государство четко обозначило новый курс: искусство должно быть понято народом (известное, но часто ошибочно цитируемое как «искусство должно быть понятным народу» – выражение создателя советского государства В. И. Ленина), оно должно быть оптимистичным, воспевающим советскую действительность, героику созидания и труда на благо Родины. Массовая песня, ставшая к тому времени уже настоящим «новым фольклором», мощным инструментом государственной пропаганды и духовного сплочения людей, вобравшая в себя весь комплекс интонаций предшествующей популярной музыки – с ее запоминающимися, иногда маршевыми, иногда романсовыми, а иногда классическими интонациями, с её простыми музыкальными образами, ясными текстами, казалась идеальной основой для будущей песенной оперы. Таким образом, общей задачей композиторов той эпохи была попытка создать "новую советскую оперу", демократичную, идейно значимую и, главное – мелодически и интонационно узнаваемую, а значит – привлекательную для широкого слушателя. Необходимо сразу отметить эту основную деталь, в корне противоречившую всему предшествующему развитию жанра: опера должна была превратиться в искусство массовое, а не элитарное.
Отметим основные примеры советской песенной оперы: это творчество И. Дзержинского (оперы «Тихий Дон», «Поднятая целина»), Т. Хренникова («В бурю», «Мать», «Фрол Скобелев»), Ю. Мейтуса («Молодая гвардия»), В. Мурадели («Великая дружба»), Дм. Кабалевского («Семья Тараса»), многих других советских композиторов. Ответил на этот «вызов времени» и крупней- ший советский композитор эпохи Сергей Прокофьев, написавший великолепную оперу «Семен Котко». Несмотря на некое общее стремление к песенной мелодичности, язык этой оперы остался узнаваемо «прокофьевским» и довольно далёким от советской массовой песни.
Оценивая все эти сочинения, следует отметить глубокую противоречивость получившегося в итоге результата.
С одной стороны, казалось бы, новый жанр песенной оперы должен был бы выполнить свои задачи. Все эти оперы должны были бы стать действительно популярными у массовой аудитории, не искушенной в классической музыке. Однако этого не произошло: несмотря на то, что в своих лучших образцах (отдельные номера опер Дзержинского, Хренникова, Кабалевского) музыкальная простота, взятая за основу, обрела искренность и настоящую подлинную выразительность большого искусства, массовые песни тех же самых композиторов (например, Хренникова, Кабалевского) имели гораздо больший успех и популярность у слушателей. Были они, как правило, более обаятельными и, говоря современным языком, «цепляющими», чем оперные номера тех же самых композиторов.
С другой стороны, ценой этого стремления к «популярности» стало глубокое упрощение композиторами музыкального языка: его мнимая "доступность" часто граничила с примитивностью, уже не вполне приемлемой на фоне академической музыки той эпохи. Предшествующая история оперного жанра говорит о том, что опера на своём пути успешно вбирала в себя все новации постепенно усложняющегося музыкального языка, и к XX веку успешно «переварила» даже такие «усложнения», как вагнеровский музыкальный язык. К тому же надо отметить, что очень часто композиторы 30-х годов, создающие «песенные оперы», как будто бы «боялись» того, что слушатели вдруг забудут, что они являются всё-таки «современными» композиторами. Из этого ложно понятого стремления к «современности» (читай – музыкальной сложности) оперы эти производят странное впечатление: с милыми и простыми мелодиями, опирающимися на элементарнейшие гармонические соотношения T-D-S часто соседствуют усложненные эпизоды в духе музыкального авангарда той эпохи. Таким образом, для «простого» слушателя эти оперы продолжали оставаться слишком сложными и непонятными, а для «элитарной» оперной публики они были слишком примитивными на фоне «настоящей» авангардной музыки.
Подводя итог, скажем так: советская песенная опера – интересный культурно-исторический феномен, своеобразный памятник эпохе с ее искренней верой в некое абстрактное "искусство для народа". Большинство этих опер (по разным причинам) не выдержали испытание временем и не стали достоянием оперного репертуара. Отдельного упоминания заслуживает замечательная опера Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие». Она была написана значительно позднее, в 80-е годы [7] и, принадлежа по многим своим параметрам к этому жанру, ставится ныне довольно часто (и из-за своего сюжета – тоже; об этом будет сказано ниже). Также интересным опытом стала опера «Не только любовь» Родиона Щедрина (1961), во многом основанная на музыкальных интонациях частушки.
В конце 2023 года мне поступило предложение написать музыкальную драму (оперу) на сюжет пьесы В. Ежова и Г. Чухрая «Алёша». Как известно, по этой пьесе Г. Чухраем был снят знаменитый фильм «Баллада о солдате». Автором идеи создания оперы выступил Игорь Яринских, автором либретто – Олег Найдёнышев. В процессе обдумывания этого замысла, были сформулированы главные художественные задачи будущего сочинения. Они представлялись следующими.
-
1. Несмотря на громадную значимость темы памяти о Великой Отечественной войне, в области музыкального театра (а опера – это высший жанр музыкального театра) за прошедшие 80 лет было создано не так уж много сочинений на эту тему. Из относительно часто ставящихся – это вышеупомянутая опера Молчанова «А зори здесь тихие». Второй пример – опера С. Прокофьева «Повесть о настоящем человеке». Другие оперы, хотя и писались, но на данный момент не стали репертуарными.
-
2. Тема памяти о Великой Отечественной войне неотделима от задач духовно-нравственного воспитания современного человека [10]. Советский народ, победивший нацизм – непреходящий пример мужества и великой жертвы каждого отдельного человека за свою Родину, «за други своя», за будущее своих детей и внуков.
-
3. Во времена появления фильма «Баллада о солдате» (1959 год) он выполнял очень важную задачу своеобразного «реквиема» по солдатам, не вернувшимся с войны. Миллионы советских женщин могли узнать себя в центральном образе фильма – образе матери, каждый вечер выходящей на дорогу ждать убитого на войне сына (мужа, брата). На долю произведения искусства выпадает в таких случаях трагическое обобщение жизни. В этом случае оно (произведение искусства) попадает в самый «нерв» жизни и становится фактом уже даже не искусства, а самой жизни. Так произошло с фильмом. В наше время ситуация другая, представляется, что произведение искусства не должно давать окончательный ответ на то, что будет с главными героями. Поэтому в либретто оперы были внесены изменения по сравнению с пьесой и фильмом: в заключительных, самых трагичных, картинах оперы главный герой Алеша после расставания с Шуркой как бы засыпает во времена Великой Отечественной войны, а просыпается уже в наше время – солдатом в современной военной форме. Право на такое драматургическое решение дает сама пьеса: её действие происходит на территории нынешней ЛНР. Дальнейшая судьба главного героя также оставлена «за кадром»; мы так и не узнаем, что с ним будет дальше, в отличие от однозначного ответа в фильме и в пьесе.
Для композитора главная задача при начале работы над любым сочинением – найти адекватный замыслу и убедительный для слушателя музыкальный язык. Было решено взять за основу язык традиционной советской песенной оперы – массовую советскую песню 30-х и 40-х годов. Ориентация на жанр песенной оперы (в свете написанного в данной статье отрицательного вывода о жанре в целом) кажется ошибочной, однако парадоксальным образом она становится единственно возможной.
В истории искусства часто случалось так, что, казалось бы, «отжившие» музыкальные стили, возвращаясь спустя некоторое время, становились по-новому актуальными и значимыми уже для слушателей новых эпох. Так произошло с полифонической музыкой эпохи барокко в конце XIX-го века (в творчестве Брамса), в XX-м веке – с венско-классической традицией (музыка Стравинского и Прокофьева). То же самое произошло, на наш взгляд, и с советской массовой песней ныне, уже в XXI веке: после всех музыкальных перипетий и новаций авангарда, «новой простоты», минимализма, иных музыкальных стилей советская массовая песня звучит удивительно свежо и неожиданно современно, её простые задушевные мелодии откликаются в памяти символами ушедшей эпохи СССР, символами своеобразного мифа о навсегда ушедшем «золотом веке» [2]. Представляется даже большее – что есть в нас, живущих ныне на территории Российской Федерации, что на уровне культуры объединяет всех в один народ? Ответ неожиданный – это музыка, советская массовая песня. Она вызывает одинаково теплые чувства у всех. Благодаря прошедшему историческому промежутку (как минимум 35–40 лет, если считать с начала 80-х годов) эти песни воспринимаются уже как прошедшие испытание временем, как своеобразная «классика». Ни одно из других направлений популярной музыки не может похвастаться такой широтой «охвата» аудитории. Западная рок-музыка эпохи 60-х-70-х годов (и отечественные аналоги) популярна у тех, кому сейчас 50–60 лет, но те, кому сейчас 20 лет, однозначно не назовут её «своей». В свою очередь, новейшие стили популярной музыки (танцевальная электроника и хип-хоп) не воспринимаются положительно даже теми, кому сейчас «всего лишь» 40 лет. Быть по-настоящему «своими» всем этим музыкальным стилям мешает и их изначально англоязычное происхождение. Строение музыкальных фраз, строение мелодии любой песни неотделимо от языка, на котором она поётся. В этом смысле между русским и английским языком слишком много принципиальных различий, делающих почти невозможным органичный перенос музыкально-поэтических образов из одной языковой среды в другую.
Человек думает и эмоционально сопереживает пению на родном языке; невозможно достичь нужной степени вовлеченности, если песня поется на чужом языке. При исполнении же по-русски всегда слышно (даже в случае хороших переводов) несоответствие музыки словам – ощущается, что они не были рождены в процессе единого творческого озарения. При этом как джаз, так и старинная русская музыкальная культура (традиционный фольклор, русский романс) – всё это тоже уже очень далеко от нас и не вызывает того чувства «попадания в нерв эпохи», которым обладала эта музыка ранее. При этом советская массовая песня (как было сказано выше) объединяет в себе громадное количество разностилевых влияний, в том числе и влияний традиционной русской музыкальной культуры во всем ее многообразии – от народной музыки до романтической – конца XIX века [8]. Подытоживая вышесказанное, напишем следующее: советская массовая песня находится в самом центре музыкального «генетического кода» современного русского человека.
Было решено взять за основу весь этот музыкальный пласт и работать с ним – с одной стороны, не утяжеляя музыкальную ткань сложными авангардными гармоническими приёмами развития, как оно часто бывало в советской песенной опере, а с другой – отказаться и от традиционной академической оперной специфики, заменив её композиционными приемами, идущими из современной киномузыки. Здесь необходимо отметить следующую вещь: для современного слушателя само понятие «серьезная музыка» (в отличие от понятия «популярная музыка») очень часто связано именно с современными оркестровыми саундтреками кинофильмов, подобно тому, как столетие назад эту нишу для культурного слушателя той эпохи занимало понятие «симфония».
В процессе работы над музыкальной составляющей оперы были выработаны некоторые принципы работы с основным мелодическим материалом. Среди них отметим следующие.
-
1. Отказ от использования сложных функциональных соотношений, использование простейших гармонических последовательностей T-D-S, при этом преобладание плагальных оборотов (что придаёт музыке ощущение народной русской идентичности).
-
2. Отказ от хроматики, опора на диатонику, при этом широкое использование вспомогательных неаккордовых диатонических звуков, часто доходящее до довольно сложных созвучий (наподобие того, как это происходит в джазовой музыке). Линия баса (при принципиальной диатоничности) часто противоречит функциям верхних голосов, даёт им новое функциональное значение.
-
3. Некоторая особенность тонального плана: тональности используются не в жестко-функциональном смысле, а в «колористическом» – подобно краскам в живописи. В сценах и номерах оперы отсутствует тональная замкнутость, характерная для традиционного понимания тонального центра, при этом строго соблюдается принцип «свежести» – ни одна тональность не повторяется по два раза в течение длительного отрезка музыки, что парадоксальным образом дает ощущение симфонического развития музыки при сознательном отсутствии традиционных методов симфонического развития – мотивной работы и тщательно выверенного тонального плана.
-
4. Особое внимание к оркестровке. В опере использован традиционный «парный» состав симфонического оркестра с некоторыми добавленными инструментами: скрипка соло, флейта-пикколо, фортепиано, баян, звончатые гусли, акустическая гитара, электрогитара, бас-гитара, ударная установка. При этом в оркестровке в полной мере использован принцип оркестровой мобильности и подвижности инструментов и тембров: очень часто мелодические построения передаются из тембра в тембр, при этом предпочитаются необычные регистры инструментов (высокие или низкие), редко используется точная дублировка, голоса часто дублируют друг друга свободно (как в подголосочной полифонии, характерной для русской народной песни). Всё это придаёт особую самодостаточную красочность звучанию, и часто очень неожиданно сочетается с простой песенной основой.
Для музыкальной характеристики героев оперы были выбраны различные музыкальные образы: главный герой Алеша – лирическая песня 30-х-40-х годов, Шурка – с одной стороны, несколько более «академичная» мелодика, связанная с жанрами оперы и оперетты (она до войны жила в городе и имела возможность посещать оперный театр), с другой – аллюзии на музыкальные образы детства и юности из киномузыки Евгения Крылатова. Тема их любовного дуэта решена также как аллюзия на лирические мелодии советского кино. В музыке Катерины (матери Алеши) – традиционная распевность старинной крестьянской песни сочетается с новой песенностью советской киномузыки. Один из второстепенных героев – Бойкий мужичок – поёт в духе «босяцкого» «беспризорного» музицирования, чей позднейший великолепный образец даёт нам песня Сергея Слонимского в фильме «Республика Шкид». Продавец Счастья (собирательный персонаж – олицетворение народной мудрости) охарактеризован музыкой, сочетающей в себе фольклор и «загадочные» странные гармонии в духе русских сказочных опер. Его же музыкальные интонации звучат в те моменты, когда в опере говорится о войне, о встречах и расставаниях, о женщинах и детях, ждущих своих родных. Раненый офицер Василий, возвращающийся домой к жене, поёт мелодию в характере лирического вальса из оперетты в сопровождении духового оркестра – аллюзия на традиции развлекательной музыки тех лет – музыки садов и парков. Отрицательные персонажи оперы (Часовой, Федор, Тимофей) охарактеризованы издевательской музыкой в стиле разбитных опереточных куплетов, а также в духе известной песни «Яблочко». Зло в данном случае не впрямую устрашающее, а пошловатое. Тем оно страшнее.
В опере широко использована система лейтмотивов, лейттембров, лейтаккордов, часто объединяющих в единой целое различных персонажей. Например, Алёша едет домой повидать мать и в каждой из женщин, встреченных им по дороге, невольно видит дорогие черты матери, поэтому все они (Старушка на перроне, мать одного из второстепенных героев – Павлова) имеют общую музыку с Катериной, матерью Алексея. Тембр солирующей скрипки сопровождает важные лирические моменты оперы. Именно им заканчивается номер «Прощание» – финал несостоявшейся любви главных героев. Часто (подобно партитурам Прокофьева) используется солирующая туба. Этот несколько «грубоватый», по мнению Арама Хачатуряна, прокофьевский приём придаёт особую театральную выпуклость звучанию оркестра.
Есть среди номеров оперы стилизации – под военные песни 40-х годов, под народные частушки, под марши в духе довоенной музыки Исаака Дунаевского, под старинные деревенские «работные» песни. Есть несколько цитат (точных и неточных): цитируются советская песня «На позиции девушка провожала бойца» (в свою очередь являющаяся музыкальной цитатой танго 30-х годов), «Песня о встречном» Шостаковича, «Наш тост» Любана, песня «Цыпленок жареный», кларнетовые наигрыши Леля из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. В кульминации же оперы – оркестровом антракте, звучащем при перенесении действия в наше время, своеобразным «символом истории» звучат начальные такты главной песни о Великой Отечественной войне: «Священная война» Александрова. Появление главного героя в конце оперы уже в нашем времени дало возможность использовать элементы рок-музыки с её неакадемическим инструментарием (бас-гитара, электрогитара, ударная установка). На наш взгляд, подобный широкий спектр заимствований и аллюзий дает столь необходимую в опере о Великой Отечественной войне большую панораму этого трагичного времени; одновременно с этим они делают музыку узнаваемой и принимаемой слушателем как единое целое.
Таким образом музыкальная драма (опера) “Алёша” является новым интересным примером современной «большой» (общая длительность без антракта – около двух часов) «песенной» лирико-драматической оперы на военный сюжет. Актуальность сюжета обусловлена его патриотической значимостью, а актуальность музыки – опорой на широкий спектр музыкальных интонаций советской песни, исходящих из времени действия оперы, но неожиданно оказавшихся очень свежо звучащими и в наше время.
Опера была закончена в декабре 2024 года. На настоящий момент состоялось несколько концертных исполнений. В них приняли участие ведущие артисты российской оперной сцены (в том числе солисты ГАБТ России), ведущие оркестры Москвы (в том числе Государственный Кремлевский оркестр Управления делами Президента Российской Федерации под руководством К. Чудовского), студенты музыкальных вузов (некоторые сольные партии исполнили выпускники ЛГАКИ им. М. Матусовского, а хоровые партии – сводный народный хор студентов МГИК под руководством доцента кафедры сольного народного пения З. Кузнецовой). Концертные исполнения получили положительные отклики у публики и в прессе. Планируются дальнейшие концертные и сценические воплощения музыкальной драмы.