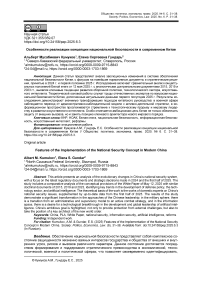Особенности реализации концепции национальной безопасности в современном Китае
Автор: Кумуков А.М., Гундарь Е.С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет анализ эволюционных изменений в системе обеспечения национальной безопасности Китая, с фокусом на новейшие нормативные документы и стратегические решения, принятые в 2024 г. и первой половине 2025 г. Исследование включает сравнительный анализ концептуальных положений Белой книги от 12 мая 2025 г. с аналогичными доктринальными документами 2015, 2019 и 2023 гг., выявляя ключевые тенденции развития оборонной политики, технологического сектора, искусственного интеллекта. Теоретической основой работы служат труды отечественных экспертов по вопросам национальной безопасности Китая, дополненные актуальными данными первого полугодия 2025 г. Результаты исследования демонстрируют значимую трансформацию подходов китайского руководства: в военной сфере наблюдается переход от административнонаблюдательной модели к активнодеятельной стратегии, в информационном пространстве прослеживается стремление к технологическому прорыву и мировому лидерству в развитии искусственного интеллекта. Особо отмечается амбициозная цель Китая не только обеспечить защиту от внешних вызовов, но и занять позицию ключевого архитектора нового мирового порядка.
КНР, НОАК, Белая книга, национальная безопасность, информационная безопасность, искусственный интеллект, реформы
Короткий адрес: https://sciup.org/149148224
IDR: 149148224 | УДК: 321:355/359.07 | DOI: 10.24158/pep.2025.6.3
Текст научной статьи Особенности реализации концепции национальной безопасности в современном Китае
предупреждать и нейтрализовать потенциальные угрозы, а также эффективно реагировать на деструктивные факторы.
Руководство КНР рассматривает национальную безопасность как совокупную мощь государства, включающую экономический потенциал, научно-технический прогресс, внутриполитическую стабильность и военную силу. На протяжении веков центральным вызовом для системы национальной безопасности Китая остается обеспечение достаточными ресурсами многочисленного населения страны и поддержание социальной стабильности. Параллельно с этим определяется путь укрепления обороноспособности и сохранения стабильности как на приграничных территориях, так и в зоне своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Материалы и методы исследования . Исследование национальной безопасности КНР опирается на методологический инструментарий неореалистического и конструктивистского подходов, широко представленного в современной науке. Согласимся с мнением отечественных и зарубежных ученых в том, что понимание трансформации военной доктрины КНР невозможно без учета уникальной стратегической культуры этой страны (Богатуров и др., 2002; Гаман-Го-лутвина, 2022; Mearsheimer, 2014).
Характерной особенностью китайского подхода к национальной безопасности является принципиальное отличие от западной модели формирования стратегии. В Китайской Народной Республике (КНР) реализуется комплексная «большая стратегия», предполагающая мобилизацию всех национальных ресурсов для достижения ключевых государственных целей. Официальная позиция по вопросам национальной безопасности прослеживается в различных документах партийно-государственной системы: решениях съездов Коммунистической партии Китая (КПК), постановлениях пленумов, директивах Центрального военного совета и Госсовета КНР.
Структура партийно-государственных органов обеспечения национальной безопасности представлена Центральным комитетом КПК и Центральной комиссией по национальной безопасности. На государственном уровне – органами исполнительной власти: Министерством государственной безопасности, отвечающим за контрразведку и защиту государственной тайны; Министерством общественной безопасности, контролирующим полицию и внутреннюю безопасность; Министерством национальной обороны, курирующим Народно-освободительную армию; Министерством иностранных дел, обеспечивающим безопасность в дипломатической сфере; Министерством юстиции, участвующим в правовом обеспечении безопасности. Важную роль играют специализированные структуры: Комитет по политике и правовым вопросам ЦК КПК, контролирующий суды и прокуратуру; Управление киберпространства (CAC), осуществляющее контроль за национальными компаниями и их независимостью от иностранных компаний; Народный банк Китая (Центральный банк), обеспечивающий финансовую безопасность; Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности, курирующее военные технологии. Силовой блок представлен Центральным военным советом как высшим органом военного управления и Народной вооруженной полицией, отвечающей за внутреннюю безопасность. Законодательную основу системы составляют Закон о национальной безопасности 2015 г., Закон о кибербезопасности 2017 г. и Закон о контрразведке.
Результаты исследования и их обсуждение . Закон КНР о национальной безопасности до 2025 г. официально обновлен не был, однако стоит отметить ряд важных нюансов в его функционировании. Закон был принят в 2015 г.1, заменив аналогичный документ 1993 г. Он существенно расширил понятие национальной безопасности, включив одиннадцать различных сфер – от политики и обороны до экологии, культуры и киберпространства, а также ввел Центральную комиссию по национальной безопасности как высший координационный орган. В 2023 г. были обновлены смежные нормативные акты: Закон о контрразведке, расширивший полномочия спецслужб, и Закон о государственной тайне с ужесточением контроля над информацией.
В период 2021–2023 гг. китайские СМИ обсуждали необходимость актуализации закона 2015 г. в связи с новыми угрозами, включая технологические санкции США и кризис вокруг Тайваня.
Для полноценного понимания китайской концепции национальной безопасности особую ценность представляет Белая книга – официальный документ, периодически издаваемый Государственным советом КНР, излагающий стратегическую позицию политического руководства и подающий сигнал для внутренней и международной аудитории. Сама по себе методология исследования Белой книги представляет интерес. Документ отражает не только текущую политику, но и долгосрочные стратегические цели китайского руководства, в ней используются косвенные формулировки, понимание которых требует специальных знаний. Язык Белой книги тщательно выверен – особое внимание следует уделять изменениям в терминологии по сравнению с предыдущими изданиями. Документ необходимо интерпретировать в контексте других официальных источников, включая выступления высшего руководства и партийные решения. Белая книга часто содержит «защитные формулировки», подчеркивающие мирный характер развития Китая, которые должны восприниматься в комплексе с фактическими действиями страны на международной арене. Особенность документа – балансирование между демонстрацией уверенности в собственных силах и стремлением не провоцировать опасения соседних государств и глобальных игроков.
Белая книга 2019 г.1 дополняет и корректирует курс, опубликованный в 2018 г. под названием «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху»2. Эти идеи записаны в Конституцию КНР, а для их изучения развернута масштабная образовательная программа3.
12 мая 2025 г. пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу под названием «Национальная безопасность Китая в новую эпоху»4. Документ сообщает о начале нового вектора ‒ реализации стратегии великого возрождения китайской нации с глобальными изменениями, которые мир не видел за последние сто лет. «Выдвинутая Си Цзиньпином инициатива глобальной безопасности составляет не только основу внешнеполитической доктрины Китая, но и неотъемлемую часть его концепции национальной безопасности. Страна … выступает за усиление системы управления глобальной безопасностью»5.
Исследуя текст Белой книги 2025 г. и сравнивая ее с предыдущими версиями, можно выделить следующие тенденции подходов Китая к национальной безопасности.
-
1. Главная угроза:
-
• 2015 г.: внутренние риски (сепаратизм);
-
• 2019 г.: внешнее давление (США);
-
• 2023 г.: системная конфронтация с Западом;
-
• 2025 г.: нестабильность глобального порядка; Китай позиционирует себя как «источник стабильности в беспорядочном мире».
-
2. Экономика:
-
• 2015 г.: стабильность роста;
-
• 2019 г.: технологическая независимость;
-
• 2023 г.: продовольственная безопасность;
-
• 2025 г.: взаимная интеграция безопасности и развития; долгосрочная китайская модернизация.
-
3. Технологии в сфере безопасности:
-
• 2015 г.: киберзащита;
-
• 2019 г.: проект «Сделано в Китае 2025»;
-
• 2023 г.: ИИ, квантовые технологии;
-
• 2025 г.: инновации как «движущая сила» модернизации системы безопасности.
-
4. Военная доктрина:
-
• 2015 г.: региональная оборона;
-
• 2019 г.: активная защита интересов;
-
• 2023 г.: подготовка к конфликту (Тайвань);
-
• 2025 г.: всеобъемлющая концепция государственной безопасности; расширение пространственных и временных рамок безопасности.
-
5. Глобальная роль:
-
• 2015 г.: укрепление суверенитета;
-
• 2019 г.: конкуренция с США;
-
• 2023 г.: альтернативный мировой порядок;
-
• 2025 г.: концепция «Сообщество единой судьбы человечества»; инициатива по глобальной безопасности; реформирование системы глобального управления; лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Особо обозначен в 2025 г. идеологический компонент - возвышение идей Си Цзиньпина как теоретической основы; «великое возрождение китайской нации» как всеобъемлющая стратегия.
Формулировки показывают, что понимание национальной безопасности Китая изменилось. Наблюдается последовательное расширение концепции безопасности Китая от узконаправленной к всеобъемлющей; завершена трансформация от оборонительной позиции к активному формированию международного порядка; идеологическая составляющая становится еще более выраженной, с акцентом на «китайский путь», а само государство все более явно позиционирует себя как глобальную альтернативу западной системе.
В книге 2025 г. выделен акцент на традиционных формулировках «серый носорог» и «черный лебедь».
Понятие «серый носорог» в китайском политическом и экономическом дискурсе представляет собой концепцию, обозначающую высоковероятные и потенциально разрушительные угрозы, которые, несмотря на свою очевидность, систематически игнорируются до момента кризиса, что принципиально отличает их от непредсказуемых «черных лебедей». Анализируя современный китайский контекст, исследователи выделяют пять основных категорий таких угроз: финансовые пузыри, включая кризис рынка недвижимости и проблемы банковского сектора; демографический коллапс, проявившийся в 2023 г. через сокращение численности населения; экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, воды и деградацией почв; технологические риски, в особенности зависимость от западных полупроводниковых технологий; социальную нестабильность, яркими примерами которой стали протесты против ограничительных мер в период пандемии. Особенность данных угроз заключается в том, что власти и общество осознают их существование, но не предпринимают достаточных превентивных мер, что приводит к значительным кризисным явлениям в долгосрочной перспективе.
В отличие от «серых носорогов», формулировка «черных лебедей» в Китае представляет собой понимание непредсказуемых событий с масштабными последствиями, угрожающими стабильности и национальной безопасности страны. После пандемии COVID-19, торговых конфликтов с США и социальных протестов китайские власти активно готовятся к различным кризисным сценариям. К геополитическим угрозам, которые Китай классифицирует как «черных лебедей», относятся внезапный кризис вокруг Тайваня, жесткие санкции, а также конфликты в Южно-Китайском море. Экономические шоки включают возможный коллапс рынка недвижимости, резкий отток капитала или обвал юаня. Технологические и экологические катастрофы, вызывающие опасения, охватывают кибератаки на критическую инфраструктуру, прорыв дамбы «Трех ущелий» и возникновение пандемии опаснее COVID-19, в связи с чем Китай поддерживает строгий контроль над биолабораториями. Массовые протесты из-за безработицы и этнические конфликты в Синьцзяне или Тибете также рассматриваются как потенциальные кризисные ситуации, для которых китайское руководство разрабатывает стратегии противодействия.
Белая книга 2025 г. представляет собой кульминацию десятилетнего процесса трансформации подхода Китая к безопасности - от региональной державы к глобальному игроку, предлагающему собственную модель развития и обеспечения национальной безопасности. Описанные в Белой книге изменения прослеживаются в модернизации системы вооружений как индикаторе стратегических изменений в области национальной безопасности.
Согласимся с отечественным исследователем М.В. Мамоновым, описывавшим в 2010 г. предстоящий КНР переход от классической стратегии «активной обороны» к многоуровневой доктрине, интегрирующей элементы наступательного потенциала и проецирования силы за пределами традиционных зон интересов, что полностью согласуется также с положениями теории «наступательного реализма» Дж. Миршаймера (Мамонов, 2010).
Имеющийся в научной литературе анализ эволюции военной доктрины КНР демонстрирует постепенный переход от концепции «народной войны» к ведению «высокотехнологических войн локального масштаба» (Хлопов, 2019: 51) и далее к «информационной войне» и «военным действиям в сетевом пространстве»1. Данный тезис подтверждается реформами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в период 2015-2022 гг., имеющими транзитивный характер от оборонительной к наступательной доктрине.
И.Ю. Зуенко выделяет три периода изменения стратегического подхода и масштабность реформы армии при существующем руководстве Си Цзиньпина. Первый период (2015-2016 гг.) - изменение организационно-штатной структуры и активная борьба с коррупцией. Второй - структурное изменение военных округов, включающее как территориальные, так и управленческие решения. В момент реформы и создания пяти «театров боевого командования», театры, отвечающие за внут-риконтинентальные направления, были усилены и увеличены в размерах. Третьим направлением реформы в 2016 г. было создание новых видов войск ‒ сил стратегического обеспечения для кибервойны, радиоэлектронной борьбы и космических операций (Зуенко, 2024: 190‒191). При этом проведено сокращение численности армии КНР, но все равно она остается крупнейшей в мире, насчитывая около 2 млн военнослужащих (без учета резервистов) и превосходя армии Индии и США.
В 2024 г. состоялся первый съезд нового для КНР рода войск ‒ Войск информационной поддержки, на котором национальный лидер Китая охарактеризовал в целом задачу развития армии: «… сейчас армия должна быть готова к решению задач на море, где перед Китаем существуют наиважнейшие внешние вызовы: Тайвань, ситуация в Южно-Китайском море, территориальные споры с Японией и, конечно же, постоянная угроза со стороны США торговым путям, от функционирования которых зависит китайская экономика»1.
В 2025 г. приняты новые военные регламенты, в которых также отражена стратегия КНР по созданию армии международного класса2. Председатель КНР на пленарном заседании делегации Народно-освободительной армии и вооруженных полицейских сил в 2025 г. озвучил цель ‒ успешное завершение «14-го пятилетнего плана» по военному строительству к 100-летию основания армии КНР. По его словам, китайская армия должна следовать курсом высококачественного, эффективного и устойчивого развития, способного выдержать испытание реальными боевыми действиями. Это означает, что Китай настойчиво проявляет амбиции стать лидирующей мировой державой в военном отношении. Лидер Китая призвал к инновациям и быстрой трансформации передовых технологий3.
Развитие технологий и информационной безопасности является успешной частью национальной безопасности КНР. Достаточно указать, что 14 мая 2025 г. Китай успешно запустил ракету-носитель, выведя на орбиту новую группировку космических вычислительных спутников, а самый мощный суперкомпьютер Китая занимает пятое место в мировом рейтинге4.
В информационной безопасности Китай использует двойную стратегию: с одной стороны, он контролирует внутреннее пространство, а с другой – активно расширяет влияние на глобальные информационные процессы. При том, что Антитеррористический закон и Закон о кибербезопасности КНР являются итогом многолетней политики Китая, направленной на контроль информационного пространства, с 2004 г. в Китайской Народной Республике реализуется проект «Золотой щит». Техническая реализация проекта изолирует в интернете нежелательный контент через блокирование VPN, инструменты фильтрации поисковых запросов и мониторинг трафика. КНР не просто защищает свой интернет, но и активно формирует глобальное цифровое пространство в национальных интересах. Именно Китай активно продвигает в ООН идею «интернет-суверенитета», то есть право стран контролировать свой сегмент Сети. При этом он активно развивает площадку для продвижения китайской модели управления интернетом ‒ Всемирную интернет-конференцию (WIC) в Учжене. На конференции в 2024 г. запущена программа сотрудничества аналитических центров 60 организаций для академического обмена, а уже летом 2025 г. в столице Китая ‒ Пекине пройдут Всемирные игры человекоподобных роботов и Всемирная конференция роботов5.
В контексте искусственного интеллекта Китай рассматривает Россию как стратегического партнера и поставщика энергии: «Если развитие ИИ будет продолжаться по текущему пути потребления энергии, то возможности России по предоставлению энергетических ресурсов и технологий для строительства безуглеродных атомных электростанций могут оказаться выгодными как для России, так и для Китая»1. С практической точки зрения развитие национальной безопасности КНР нельзя рассматривать лишь как ответную меру на внешние угрозы. Это тщательно разработанная стратегическая концепция, целью которой является создание полицентричной международной системы, где Китай позиционирует себя ключевым центром силы.
В 2024 г. Министерством промышленности и информационных технологий (Администрация по вопросам киберпространства КНР) был разработан и принят регламент «Руководство по созданию комплексной системы и стандартизации для национальной индустрии искусственного интеллекта КНР». В нем заложены характеристики национальной системы «Искусственный интеллект» и поставлены задачи: «К 2026 году уровень связи между стандартами и промышленными технологическими инновациями будет продолжать повышаться. Планируется сформулировать более 50 новых национальных и отраслевых стандартов, а также создать систему стандартов, которая будет способствовать ускорению качественного развития индустрии искусственного интеллекта»2.
В работе А. Карпа и Н. Замиски обосновывается значимость искусственного интеллекта в мировых системах обеспечения безопасности: «Эпоха военных конфликтов изменилась. Следующая эпоха сдерживания будет определяться программным обеспечением... В 2022 г. компания OpenAI вложила миллиарды долларов в разработку крупных языковых моделей, таких как ChatGPT, впервые выпустила свой интерфейс ИИ (искусственный интеллект) в открытый доступ. Политика компании запрещала использовать ее технологии в “военных и боевых” целях» (Karp, Zamiska, 2025: 49). Однако компания изменила курс в начале 2024 г. и сняла полный запрет на военные приложения. За несколько лет до этого события уже развернулось полноценное соперничество между США и КНР в части ИИ. В работе С. Антиповой и О. Тляшева (2021) показано институциональное развертывание данного противостояния. С конца 1990-х гг. КНР проводит политику «шашоуцзянь», что дословно переводится как «убийца» или в иной интерпретации «козырная карта». Китай стремится создать асимметричный военный потенциал, чтобы обеспечить критическое преимущество в конфликтах. Бывший председатель КПК Цзян Цзэминь подчеркивал важность технологий, особенно тех, которые вызывают наибольшую озабоченность у врага. В 2015 г. Государственный совет представил инициативу «Интернет+», направленную на интеграцию интернета в экономику и общество, а также был принят 10-летний план «Сделано в Китае 2025», целью которого стало превращение Китая в ведущего игрока в сфере высоких технологий. До 2016 г. искусственный интеллект рассматривался лишь как одна из многих технологий, полезных для достижения политических и военных целей, но в 2017 г. был опубликован «План развития искусственного интеллекта нового поколения», который определил цель ‒ мировое лидерство в ИИ к 2030 г.3
Подводя итог, можно сделать вывод, что военная доктрина, работая вместе с информационной, позволила национальной безопасности КНР эволюционировать от классической стратегии «активной обороны» к многоуровневой доктрине стратегического наступления. Наблюдаемые изменения согласуются с уже известными выводами отечественных и зарубежных исследователей. Так, А.Н. Корнеев (2019) подчеркивает, что не только обеспечение национальной безопасности, но и внешнеполитический курс КНР проходит путь от «скрывания своих возможностей» к «великому возрождению китайской нации». Прогностическая модель, разработанная Г. Аллисоном (2019), указывает на высокий потенциал конфликтности при переходе к многополярному миропорядку с существенным участием Китая в качестве одного из полюсов силы.
За границами данной работы осталась экономическая составляющая (по официальным данным КНР, в первом квартале 2025 г. экономика демонстрирует устойчивость: ВВП Китая вырос на 5,4 %, промышленная прибыль увеличилась на 0,8 %, а прямые инвестиции выросли на 6,2 %4) и требующие детального исследования ‒ антитеррористическая и противоэкстремист-ская. Тем более что Антитеррористическая правовая система и практика Китая принята и размещена на официальном сайте Информационного бюро Госсовета КПК в 2024 г., в том же году вышла Белая книга «Правовая система и практика Китая в области борьбы с терроризмом», в 2023 г. был представлен важный опыт построения сообщества с единой судьбой для человечества в рамках совместного развития инициативы «Один пояс, один путь».
В современном геополитическом ландшафте Китайская Народная Республика демонстрирует последовательную и многогранную стратегию трансформации системы национальной безопасности.
Эволюция концепции национальной безопасности Китая представляет собой многоуровневый процесс, который трансформировался за последнее десятилетие. Если в 2015 г. основной акцент делался преимущественно на внутренних рисках и региональной стабильности, то к 2025 г. стратегия расширилась до глобального масштаба. Китай позиционирует себя не просто как региональную державу, а как архитектора нового миропорядка, способного предложить альтернативную модель глобальной стабильности.