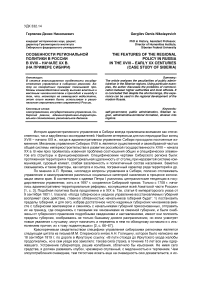Особенности региональной политики в России в XVIII - начале ХХ в. (на примере Сибири)
Автор: Гергилев Денис Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности государственного управления в сибирских регионах. Автор на конкретных примерах показывает проблемы взаимодействия между высшей властью и местным чиновничеством и приходит к выводу о том, что, несмотря на имеющиеся недостатки, этот опыт может быть использован в региональном строительстве современной России.
Самоуправление, государственное управление, сибирский регион, административно-территориальное становление, региональное деление
Короткий адрес: https://sciup.org/14940788
IDR: 14940788 | УДК: 332.14
Текст научной статьи Особенности региональной политики в России в XVIII - начале ХХ в. (на примере Сибири)
История административного управления в Сибири всегда привлекала внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей. Наиболее интересным для них периодом был конец XVIII – начало XIX в., когда в административном управлении Сибири проходили постоянные изменения. Механизм управления Сибирью XVIII в. является существенной и своеобразной частью общей системы империостроительства в развитии российской государственности XVIII – начала XX в. В нем ярко проявилась извечная проблема соотношения общих и специфических элементов его структуры и функционирования. Специфическими чертами Сибирского региона были: протяженная территория и территориальная удаленность от столиц при неразвитой системе коммуникаций, суровый климат, слабая заселенность и полиэтничный состав населения. Заметно сказывались и такие факторы, как каторга и ссылка, пограничный характер ряда территорий и др.
По мнению А.П. Яркова, «исследуя вопросы управления в Сибири, полезно отслеживать управление и самоуправление различных социальных категорий населения в процессе колонизации земли края. В соответствии с идеями Петра I усилились централистские тенденции в государственном управлении, хоть и в 1697 г. сохранялся Сибирский приказ. Только с 1708 г. начались административно-территориальные реформы, коснувшиеся всей Азиатской части России» [1, c. 3]. Подобная политика была продолжена и в XIX в. Так, статья 6 императорского указа от 9 сентября 1801 г. гласила: «Когда губернское и уездное управление восстановляемых губерний воспримет свое действие, главною обязанностью начальников губерний будет: 1) постановить пределы губерний, и для сего, избрав достаточное число надежных губернских чиновников вместе с губернским землемером и сменяясь с начальниками губерний прикосновенных, отправить их на границу, где соединяясь с таковыми же чиновниками из смежной губернии, и были снабжены от губернского правления подробными сведениями и наставлениями, имеют они положить пределы губернии, соображаясь не только бывшему доселе разграничению, но если усмотрят новые уважения к лучшему, могут назначить и перемены в нем по обоюдному согласию и с изъяснением причин, их к тому подвигнувших» [2, c. 66–67].
Красноречивым свидетельством специфики управления сибирскими регионами является следующая цитата из письма М.М. Сперанского князю А.Н. Голицыну, которое было написано им 18 сентября 1819 г. по дороге в Иркутскую ссылку: «В пути отсюда до Иркутского уезда жалобы продолжались, но в сем уезде все замолкло: такова сила страха, в течение 13 лет все умы одержавшего. Устранение губернатора, решив колебания, облегчило бы изыскания. Не имея сего средства, я должен развивать клубок, чрезмерно спутанный, с медленностью и терпением. Чем злоупотребления очевиднее, тем тягостнее искать еще на очевидность сию доказательств, и ис- кать их среди страха, здесь еще действующего, и каких-то надежд, из Петербурга с каждою почтою сюда льющихся» [3, c. 597]. Дело в том, что образование министерств не изменило принципов построения государственного управления на местах – в губерниях и уездах. В соответствии еще с екатерининским законодательством, главной фигурой, «хозяином» губернии оставался губернатор. «Считалось, что губернаторы являлись представителями центральной власти на местах, подчиненными непосредственно Сенату. Фактически же они все чаще были ставленниками Министерства внутренних дел, что вызывало возражения других ведомств, которые имели свои органы в губерниях, неизбежно оказывавшиеся под надзором губернаторов» [4, c. 84]. Сибирский комитет собирался по мере накопления дел, а его положения поступали на утверждение прямо к царю, минуя другие инстанции. «Мнения Сибирского комитета представлялись царю и принимали силу закона в виде высочайше утвержденных положений Сибирского комитета» [5, c. 322]. По именному указу, данному Сенату 16 августа 1802 г., губернаторам разрешалось лишь наблюдать за дворянскими выборами, а также запрещалось домогаться избрания одних депутатов и отстранения от должности других. Согласно указу 1821 г., подтвержденному в Законах о состояниях, губернское правление и палаты «…не могли посылать предводителям распоряжений и требовать от них отчетов, но сносились как с губернскими, так и с уездными предводителями или через депутатское собрание, или через губернатора» [6, c. 143].
Начиная разрабатывать план преобразований, М.М. Сперанский хорошо знал и учитывал исторические особенности Сибири. Он считал, что недостатки «Учреждения о губерниях» 1775 г. усиливались в Сибири следующими факторами: 1) отсутствием дворянства, 2) большими расстояниями, 3) малочисленностью населения, 4) недостатком чиновников, 5) отсутствием действенного надзора за действиями администрации. М.М. Сперанский пришел к выводу, что одной из основных причин неэффективности деятельности административных органов в Сибири является отсутствие четкого определения их полномочий. Подводя итоги своей деятельности в Сибири, он составил ряд проектов по преобразованию управления этим обширным краем и в январе 1820 г. доложил царю о том, что его миссия в Сибири окончена.
Трудности управления Сибирью далеко не всегда принимались во внимание в СССР, поскольку этот край должен был вносить максимально возможный вклад в развитие народного хозяйства и обороноспособность страны. «Однако ошибочным было взваливать на Сибирь непосильную ношу, заставлять ее выполнять задания, которые наносили невосполнимый ущерб краю (экология, разорение и т. п.) и, главное, обрекали на голодное существование народонаселение» [7]. Более того, «“Временное положение об управлении туземных племен и народностей северных окраин РСФСР”, предусматривая организацию родовых Советов, допускало объединение населения в Советы на территориальной основе. Между тем опыт советского строительства на Севере выявил ограниченность как территориального, так и родового признаков. И дело здесь не только в том, что к кочевому населению нельзя было применить территориальный признак, а к оседлому – родовой. Если организация территориальных Советов имела тот существенный недостаток, что игнорировала национальный состав населения, происходила в некоторых местах в форме сельских… Советов, то организация родовых Советов не соответствовала в целом реальным связям этого населения…» [8, c. 153].
А.П. Дворецкая на конкретных исторических примерах демонстрирует еще одну важную особенность региональной политики в отношении Сибири: «В начале 1920-х гг. начался поиск оптимальных внутренних границ территории. Первым этапом районирования стало преобразование низовых территориально-административных единиц – волостей и сельсоветов. Власти попытались построить новые административные единицы по экономическому принципу, упростить, удешевить административный аппарат. Первоначально были объединены отдельные волости, созданы новые; отдельные населенные пункты были присоединены к другим уездам и городам» [9, c. 14–15].
Осуществляемая субъектами Российской Федерации власть не может рассматриваться как самостоятельный феномен, потому что проявить свои правовые свойства она может лишь в системном и органичном единстве с общефедеративной властью, приоритетно действующей в пределах каждого из субъектов Российской Федерации [10, c. 8–9]. По мнению Е.Д. Егоровой, «изменения административно-территориального устройства, как правило, происходят в ходе его реформирования, проведение которого обычно диктуется текущими политическими потребностями государств и изменением принципов территориального управления. Для России с ее огромной территорией сетка административно-территориального деления и принцип его устройства служат одной из основ государственности, а их эволюция – отражением и важной компонентой эпох и циклов регионализации» [11, c. 36].
Таким образом, в региональной политике Российского государства Сибирь играет принципиальную роль, поскольку на примере этого региона можно отрабатывать оптимальные образцы управленческих решений.
Ссылки:
-
1. Ярков А.П. К 90-летию Новониколаевской губернии: исторический опыт укрепления российской государственности // Новосибирская область в контексте российской истории : материалы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию образования Новониколаев. губернии. Новосибирск, 2011. Ч. 2. С. 3–8.
-
2. Шепелев Л.Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра и Николая. СПб., 2007. 461 с.
-
3. Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. 680 с.
-
4. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. СПб., 2001. 479 с.
-
5. Власть в Сибири: XVI – начало XX в. / сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 2005.
-
6. Иванова Н.А., Желтова В.Л. Сословное общество Российской империи (XVIII – начало XX века). М., 2010. 752 с.
-
7. Познанский В.С. Социальные катаклизмы в Сибири: голод и эпидемии в 20–30-е годы XX в. Новосибирск, 2007. 307 с.
-
8. Зибарев В.А. Советское строительство у малых народностей Севера (1917–1932 гг.). Томск, 1968. 334 с.
-
9. Дворецкая А.П. Районирование территории Приенисейского региона в 1924–1925 гг. // Новосибирская область в контексте российской истории. С. 14–17.
-
10. Федерализм в России (История. Проблемы. Перспективы). Т. II. М., 2008. 504 с.
-
11. Егорова Е.Д. Административно-территориальные изменения и формирование архивных фондов Алтайского края и Новосибирской области // Новосибирская область в контексте российской истории. С. 35–45.
696 с.
Список литературы Особенности региональной политики в России в XVIII - начале ХХ в. (на примере Сибири)
- Ярков А.П. К 90-летию Новониколаевской губернии: исторический опыт укрепления российской государственности//Новосибирская область в контексте российской истории: материалы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию образования Новониколаев. губернии. Новосибирск, 2011. Ч. 2. С. 3-8.
- Шепелев Л.Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра и Николая. СПб., 2007. 461 с.
- Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. 680 с.
- Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII -начало XX в. СПб., 2001. 479 с.
- Власть в Сибири: XVI -начало XX в./сост. М.О. Акишин, А.В. Ремнев. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 2005. 696 с.
- Иванова Н.А., Желтова В.Л. Сословное общество Российской империи (XVIII -начало XX века). М., 2010. 752 с.
- Познанский В.С. Социальные катаклизмы в Сибири: голод и эпидемии в 20-30-е годы XX в. Новосибирск, 2007. 307 с.
- Зибарев В.А. Советское строительство у малых народностей Севера (1917-1932 гг.). Томск, 1968. 334 с.
- Дворецкая А.П. Районирование территории Приенисейского региона в 1924-1925 гг.//Новосибирская область в контексте российской истории. С. 14-17.
- Федерализм в России (История. Проблемы. Перспективы). Т. II. М., 2008. 504 с.
- Егорова Е.Д. Административно-территориальные изменения и формирование архивных фондов Алтайского края и Новосибирской области//Новосибирская область в контексте российской истории. С. 35-45.