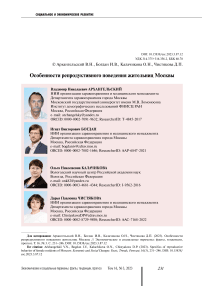Особенности репродуктивного поведения жительниц Москвы
Автор: Архангельский В.Н., Богдан И.В., Калачикова О.Н., Чистякова Д.П.
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное и экономическое развитие
Статья в выпуске: 3 т.16, 2023 года.
Бесплатный доступ
Динамика рождаемости населения в России остается одним из важных объектов внимания демографической науки и политики. В 2019 году суммарный коэффициент рождаемости в Москве превысил среднероссийское значение показателя, породив предположения о вероятности зарождения новой тенденции, несмотря на то что исследования репродуктивного поведения горожан свидетельствуют о большей приверженности к малодетности. В статье представлены оценки показателей рождаемости в столичных мегаполисах России, свидетельствующие, что значения показателей по-прежнему ниже среднероссийских и даже ниже, чем у городского населения страны в среднем. Согласно данным актуального опроса жительниц Москвы сохраняются ориентации на малодетность, откладывание рождений. Значимыми факторами детности для жительниц Москвы являются брачное поведение, уровень образования, уровень жизни и ценностные ориентации. У москвичек с высшим образованием в реальных поколениях показатели рождаемости несколько ниже, чем в среднем по России. Несколько меньшая приверженность к легитимации отношений также имеет значимую детерминирующую роль. Влияние уровня доходов нельзя оценивать однозначно. Действительно, в группах женщин с относительно более низким благосостоянием показатели рождаемости выше, однако это происходит за счет соотношения удовлетворенности уровнем жизни и значимости детей (потребности в детях). Более высокий уровень доходов (и удовлетворенность ими) способствует реализации репродуктивных намерений. Для москвичек характерны межпоколенная передача традиций малодетности и более высокая доля ориентированных на индивидуальные ценности, что также определяет более низкий уровень рождаемости в столичном мегаполисе. Учет тенденций рождаемости и особенностей репродуктивного поведения москвичек может способствовать повышению эффективности демографической политики.
Репродуктивное поведение женщин, репродуктивное поведение жительниц москвы, факторы репродуктивного поведения женщин
Короткий адрес: https://sciup.org/147241673
IDR: 147241673 | УДК: 314.375+316.356.2 | DOI: 10.15838/esc.2023.3.87.12
Текст научной статьи Особенности репродуктивного поведения жительниц Москвы
Для столичных мегаполисов традиционно характерен относительно более низкий уровень рождаемости. Прежде всего это, вероятно, связано с особенностями образа жизни населения в них. Большие возможности для самореализации в профессиональной деятельности зачастую детерминируют откладывание рождения детей. Этому же может способствовать и более широкий спектр возможностей проведения досуга. Вместе с тем, по данным переписи населения 2020 года, в двух главных городах страны проживает 14% россиянок репродуктивного возраста.
До 2002 года наименьший суммарный коэффициент рождаемости среди субъектов Российской Федерации фиксировался в Санкт-Петербурге и Москве. Только в 1997 году в Московской области (0,984) он оказался чуть ниже, чем в Москве (0,985). В 1993–2001 гг. в Санкт-Петербурге и в 1993, 1997–2001 гг. в
Москве его величина была меньше 1,0. С 2003 года суммарный коэффициент рождаемости в Ленинградской области стал ниже, чем в Санкт-Петербурге, а в последующие годы – ниже и по сравнению с Москвой. В 2019 году впервые суммарный коэффициент рождаемости в Москве (1,505) оказался чуть выше, чем в целом по России. В 2021 году его величина в столице (1,597) была уже значительно больше общероссийской (1,505). Казалось бы, появились основания говорить о более высоком уровне рождаемости в столичном мегаполисе.
Следует, однако, иметь в виду, что согласно закону «Об актах гражданского состояния» местом рождения ребенка в записи акта о его рождении может быть указано как место жительства родителей, так и место фактического рождения ребенка. В Москве очень высока доля родившихся у иногородних. Например, в 2021
году она составляла 25,8%1. В связи с этим может иметь место существенная несопоставимость числителя (число родившихся) и знаменателя (численность женщин) и, соответственно, завышение показателей рождаемости по Москве (Степанова, 2014). То же, вероятно, наблюдается и в Санкт-Петербурге, тогда как в Ленинградской области показатели рождаемости, наоборот, занижены.
Вместе с тем факт повышения рождаемости у горожан, в том числе в измерении репродуктивных ориентаций, требует проверки и грамотной интерпретации. Статистический артефакт или зарождение новой тенденции – поиску ответа на этот вопрос посвящена наша статья.
Методы исследования
Более корректную оценку соотношения уровней рождаемости в Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с другими субъектами Российской Федерации и Россией в целом дают показатели рождаемости в реальных поколениях, рассчитываемые по данным переписей населения на основе ответов женщин о числе рожденных детей. Такой способ получения информации, естественно, обеспечивает сопоставимость числителя и знаменателя. Использование показателей рождаемости для реальных поколений позволяет нивелировать влияние тайминговых сдвигов. Однако следует иметь в виду, что это относится только к итоговому (по завершении репродуктивного периода) числу рожденных детей. На показателях рождаемости в реальных поколениях женщин того или иного возраста тайминговые сдвиги будут сказываться. Также показатели рождаемости в реальных поколениях позволяют несколько иначе (чем на основе суммарного коэффициента рождаемости и нетто-коэффициента воспроизводства населения) оценить степень замещения поколений матерей поколениями дочерей: такая оценка может быть сделана непосредственно для каждого поколения с учетом среднего числа рожденных детей, скорректированного на долю девочек среди родившихся.
В рамках статьи важно отметить сопоставимость показателей рождаемости именно для реальных поколений с репродуктивными ориентациями по данным социологических исследований, так как их характеристики также рассчитываются в отношении реальных поколений.
Для углубленного анализа возможных причин более низкого уровня рождаемости в Москве в сентябре 2021 года отдел медико-социологических исследований (руководитель – кандидат политических наук Богдан Игнат Викторович) Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы провел социологическое исследование репродуктивного поведения.
Исследование осуществлено методом телефонного опроса в период со 2 по 24 сентября 2021 года. Сбор данных проводил ООО «Спектр». Итоговый размер выборки составил 611 человек. Максимальный размер ошибки выборки не превышает 3,96% при доверительной вероятности на уровне 95%. Опрос проводился с использованием случайной стратифицированной выборки мобильных телефонов (CATI). В исследовании приняли участие женщины репродуктивного возраста (18–49 лет), постоянно проживающие в Москве. Репрезентативность выборки контролировалась с помощью заданных страт по критериям принадлежности к возрастным группам (18–24, 25–29, 30–34, 35–49 лет), а также наличию и числу собственных детей (1 ребенок / 2 и более) на основании данных Росстата за 2020 год.
Репродуктивное поведение женщин и его детерминанты
Среди детерминант рождаемости большое внимание уделяется репродуктивному поведению женщин, которое при определенных обстоятельствах способно корректировать влияние структурных факторов, смещая показатели детности. Внимание к особенностям и факторам репродуктивного поведения женщин обусловлено тем, что в российских реалиях репродуктивные решения принимаются именно женщинами, что закреплено формальными и неформальными нормами.
Современные женщины все чаще используют мужские стратегии жизнедеятельности, отдавая приоритет не семье, а самообразованию, профессиональной карьере. Обществом заданы координаты выведения женщин из пространства частной жизни, что серьезно изменило их ролевые функции и повлияло на репродуктивное поведение. С давних времен в России консервировались патриархальные взгляды на место и роль женщины в социальном континууме. Женские стратегии предполагали роль хозяйки дома, матери. Традиционно брак и рождение детей были главным и единственным способом утверждения женской статусности. В общественном мнении легитимизация карьеры женщины сопрягалась с неудачами в личной жизни как некоторая социальная компенсация (Беги-нина, Калугина, 2018). Подобные тенденции характерны в большей степени для жительниц городов. Доминирующей в городской и сельской местности остается однодетная семья, однако удельный вес двух- и трехдетных семей в селе выше, чем в городе (Блинова, Вяльшина, 2012). При этом снижение рождаемости у городского населения началось еще в поколениях 1920-х гг. рождения (Денисов, 2015).
Исследования влияния городского образа жизни на репродуктивное поведение населения однозначно свидетельствуют о коренных изменениях в поведении горожан. Е.Н. Новоселова отмечает: «Сегодняшний городской житель гораздо больше привязан к вещам, чем к семье. <…> Таким образом, город изменил человека и практически победил его. Последствия этой победы – разрушение ценности семьи и детей, формирование семей, состоящих из индивидов-одиночек, воспитание детей во внесемейном пространстве мегаполиса, глубокое изменение психологии как женщины, так и мужчины» (Новоселова, 2014).
У горожанок, москвичек в частности2, отмечается большая склонность к мало- и бездетности, более существенное откладывание вступления в брак и рождения первенца до уровня женщин европейских стран, где он достиг 29 лет (Frejka, Sardon, 2005; Sobotka, 2004). Однако имеются данные и о более высокой недореали-зации репродуктивных намерений москвичей в связи с наличием детерминант, таких как занятость и жилищные проблемы, а также инте-риоризация культурных ценностей (Жук, 2016).
Влияние материальных и жилищных условий, уровня жизни на репродуктивное поведение не столь очевидно. Результаты большинства исследований свидетельствуют о наличии обратной связи между уровнем жизни и рождаемостью, количеством детей: более высокие показатели рождаемости, количества детей в семье сочетаются с более низким уровнем жизни. Корректный анализ, исключающий влияние имеющегося количества детей на среднедушевой доход, показывает, что повышение уровня жизни может способствовать более полной реализации потребности семей в рождении нескольких детей и тем самым повышению рождаемости, а не ее снижению (Сивоплясова и др., 2022). Репродуктивный выбор определяет соотношение значимости ценностей детей и материального благополучия (Архангельский и др., 2021). Выбор приходится делать каждой семье, а слабая связь суммарного коэффициента рождаемости и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума свидетельствует о наличии других нематериальных детерминант рождаемости и репродуктивного поведения.
К числу факторов репродуктивного поведения, несомненно, относится здоровье. О роли репродуктивного здоровья женщин как фактора рождаемости и репродуктивного поведения свидетельствуют исследования Е.В. Земляновой3,
А.А. Шабуновой (Шабунова, 2010). Связь репродуктивного здоровья, которое в свою очередь детерминирует поведение, и деятельности системы здравоохранения обусловлена необходимостью медицинского сопровождения женщин и супружеских пар на разных стадиях репродуктивного цикла. В исследовании Н.Е. Русановой и А.А. Ожигановой доказана медикализация репродуктивных намерений женщин, в том числе с учетом использования вспомогательных репродуктивных технологий, а также отмечен растущий запрос на гуманизацию родовспоможения, который проявляется в желании женщин тщательно подходить к организации родов и выбору команды помощников, посещать курсы для будущих родителей, быть более информированными и подготовленными (Русанова, Ожиганова, 2022).
Одним из доказанных факторов рождаемости выступает брачность. А.Б. Синельников установил, что на ежегодные изменения числа родившихся сильно влияют изменения числа зарегистрированных браков с лагом в один год (Синельников, 2015), а трансформация брачного поведения в целом способствует снижению рождаемости. «Женщины, состоящие в зарегистрированном браке, к концу репродуктивного возраста имеют больше детей, чем женщины, состоящие в незарегистрированных партнерствах. Женщины, состоящие в повторном законном браке, имеют больше детей, чем состоящие в первом браке. Но даже у них среднее число рожденных детей значительно меньше того минимума, который необходим для простого замещения поколений. Лишь одна из каждых пяти женщин репродуктивного возраста, у которых прекратился первый брак, на момент опроса состояла в законном браке. Среднее число детей у женщин, состоящих в незарегистрированных союзах, больше, чем у никогда не состоявших в браке и у разведенных, но меньше, чем у замужних» (Синельников, 2019).
В ряде исследований изучается влияние образования на репродуктивное поведение женщин. Как российские, так и зарубежные демографы выявляют меньшую детность женщин с высшим образованием (Архангельский и др., 2019; Gustafsson, 2005), откладывание материнства до получения профессии и экономической состоятельности (Marini, 1984; Gustafsson, Worku, 2005; Lappegard, Ronsen, 2005).
Таким образом, результаты исследования показывают наличие особенностей репродуктивного поведения горожанок, а именно заметно большие тайминговые сдвиги, распространение малодетности, обусловленные ценностями и образом жизни, для которых характерен выбор в пользу благосостояния и профессиональной самореализации.
Результаты исследования
Результаты переписи населения в 2021 году показали, что в Москве и Санкт-Петербурге рождаемость в реальных поколениях существенно ниже, чем в целом по России и у городского населения страны (табл. 1) .
Таблица 1. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по России (на одну женщину)
|
Возраст, лет |
Москва |
Санкт-Петербург |
Россия |
|
|
все население |
городское население |
|||
|
20–24 |
0,13 |
0,10 |
0,31 |
0,25 |
|
25–29 |
0,48 |
0,45 |
0,90 |
0,79 |
|
30–34 |
0,93 |
0,94 |
1,37 |
1,26 |
|
35–39 |
1,24 |
1,26 |
1,61 |
1,50 |
|
40–44 |
1,37 |
1,36 |
1,66 |
1,54 |
|
45–49 |
1,34 |
1,29 |
1,60 |
1,48 |
|
50–54 |
1,31 |
1,24 |
1,60 |
1,45 |
|
55–59 |
1,31 |
1,26 |
1,68 |
1,52 |
|
60–64 |
1,35 |
1,32 |
1,77 |
1,62 |
|
65–69 |
1,34 |
1,32 |
1,80 |
1,65 |
|
70 и более |
1,32 |
1,28 |
1,84 |
1,66 |
Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Том 9. Рождаемость. Таблица 1 .
В Москве среднее число рожденных детей в реальных поколениях немного выше, чем в Санкт-Петербурге (кроме возрастных групп 30–34 года и 35–39 лет). Среди субъектов Российской Федерации среднее число рожденных городскими женщинами детей ниже, чем в Москве (но выше, чем в Санкт-Петербурге), только в Воронежской (40–44 и 45–49 лет) и Тульской (45–49 и 50–54 года) областях.
Одним из факторов более низкой рождаемости в реальных поколениях в Москве и Санкт-Петербурге может быть существенно более высокий уровень образования населения. Доля женщин в возрасте 15–49 лет, имеющих высшее образование, по данным переписи населения, проведенной в 2021 году, в целом по России составляет 35,7%, по городскому населению страны – 40,5%, в Москве – 47,1%, в Санкт-Петербурге – 47,4%4. Элиминировать влияние этих различий можно, сопоставив среднее число рожденных детей у женщин, имеющих высшее образование (табл. 2) .
Отличие уровня рождаемости в реальных поколениях в Москве и Санкт-Петербурге от всего и от городского населения России у женщин с высшим образованием существенно меньше, чем в целом по всем женщинам (например, если в целом по всем женщинам в возрасте 45–49 лет среднее число рожденных детей в Москве меньше, чем в целом по России, на 0,26, а по сравнению с городским населением – на 0,14, то у женщин с высшим образованием – соответственно, на 0,12 и 0,08; в возрасте 35–39 лет в целом по всем женщинам – на 0,37 и 0,26, у женщин с высшим образованием – на 0,26 и 0,21), но все же сохраняется. Обратим внимание, что, по данным переписи населения, в Москве и Санкт-Петербурге у женщин с высшим образованием среднее число рожденных детей в возрастных группах от 40 до 55 лет выше, чем при более низком уровне образования и, соответственно, чем у всех женщин (см. табл. 1 и 2).
В когортах более молодых женщин Москвы и Санкт-Петербурга показатель среднего числа рожденных детей более существенно отличается от значения по стране в целом. Возрастные различия могут носить как поколенческий характер (т. е. более существенные в более молодых поколениях), так и быть связанными с более поздним, в среднем, началом деторождения, сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам в Москве и Санкт-Петербурге. Доля женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 30 лет, в Москве составляет 80,0%, в Санкт-Петербурге – 79,6%, в целом по России – 88,6%, у городского населения страны – 87,0%; в возрасте до 25 лет – соответственно, 49,4%, 47,8%, 65,1% и 61,4%5.
Таблица 2. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин, имеющих высшее образование, в Москве, Санкт-Петербурге и в целом по России (на одну женщину)
|
Возраст, лет |
Москва |
Санкт-Петербург |
Россия |
|
|
все население |
городское население |
|||
|
20–24 |
0,12 |
0,07 |
0,18 |
0,17 |
|
25–29 |
0,40 |
0,34 |
0,64 |
0,60 |
|
30–34 |
0,89 |
0,86 |
1,20 |
1,15 |
|
35–39 |
1,24 |
1,24 |
1,50 |
1,45 |
|
40–44 |
1,39 |
1,36 |
1,56 |
1,52 |
|
45–49 |
1,37 |
1,30 |
1,49 |
1,45 |
|
50–54 |
1,32 |
1,25 |
1,46 |
1,40 |
|
55–59 |
1,31 |
1,25 |
1,49 |
1,43 |
|
60–64 |
1,35 |
1,31 |
1,58 |
1,52 |
|
65–69 |
1,35 |
1,31 |
1,62 |
1,55 |
|
70 и более |
1,29 |
1,26 |
1,57 |
1,51 |
Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Том 9. Рождаемость. Таблица 5 .
Один из факторов, который может способствовать более низкой рождаемости в Москве, – относительно большая доля людей, находящихся в незарегистрированных супружеских отношениях. Среди считавших себя состоящими в браке доля тех, чьи супружеские отношения не зарегистрированы, у женщин в возрасте 25–29 лет (в этой возрастной группе наибольший уровень рождаемости) в Москве и Санкт-Петербурге составляет 16,8%, в целом по России – 12,9%, у городских женщин страны – 12,7%6.
При этом, по данным социологического исследования, проведенного в Москве в 2021 году, среднее число рожденных детей различается в зависимости от того, зарегистрированы ли супружеские отношения или нет (табл. 3).
Во всех возрастных группах опрошенных женщин у состоящих в зарегистрированном браке среднее число рожденных детей значимо больше, чем у тех, у кого брак не зарегистрирован (p < 0,05): разница составляет от 0,48 у 40–44-летних женщин до 0,89 у 20–24-летних.
Среди тех, у кого супружеские отношения начались в 2010–2018 гг. (т. е. после начала отношений прошло не менее 3 лет), при зарегистрированном (на момент опроса) браке доля не имеющих рожденных детей составляет 18,5%, при незарегистрированных супружеских отношениях – 38,8%.
В зависимости от брачного статуса, регистрации брака различаются и репродуктивные ориентации, к которым прежде всего относятся ожидаемое и желаемое число детей.
В данном социологическом исследовании с целью проверки влияния формулировки вопросов на ответы о репродуктивных ориентациях в отличие от большинства проводившихся ранее исследований репродуктивного поведения сначала выяснялось ожидаемое число детей («Сколько всего детей, включая имеющихся, Вы собираетесь иметь?»), а затем – желаемое. Причем акцентировалось внимание на ситуации со всеми необходимыми условиями для того, чтобы иметь детей («Представьте ситуацию, при которой у Вас есть все необходимые условия, чтобы иметь детей. Хотели бы Вы иметь большее число детей, чем собираетесь сейчас?»). Только тем, кто отвечал «да», задавался вопрос о желаемом числе детей «Сколько всего детей, включая имеющихся, Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия?»7. В результате среднее желаемое число детей, по данным исследования, оказалось очень высоким (2,73), в полтора раза превышающим среднее ожидаемое число детей (1,81). Для сравнения, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 2017 году, в целом по России среднее ожидаемое число детей у женщин (1,88) немногим больше, чем в данном исследовании, а среднее желаемое (2,15)8 значительно меньше.
Таблица 3. Среднее число рожденных детей в зависимости от возраста и регистрации брака
|
Возраст, лет |
Состоят в зарегистрированном браке |
Живут вместе (гражданский брак) |
Разность |
|
20–24 |
1,00 |
0,11 |
0,89 |
|
25–29 |
0,83 |
0,20 |
0,60 |
|
30–34 |
1,17 |
0,64 |
0,53 |
|
35–39 |
1,47 |
0,89 |
0,58 |
|
40–44 |
1,88 |
1,40 |
0,48 |
|
45–49 |
1,74 |
1,00 |
0,74 |
|
Источник: здесь и далее данные социологического исследования, 2021 г. |
|||
6 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Т. 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. Таблица 5 .
7 При расчете распределений по желаемому числу детей и средней его величины у тех, кто отвечал «нет» на вопрос о желании иметь большее число детей, чем собираются, и, соответственно, не отвечал на вопрос о желаемом числе детей, в качестве желаемого числа отмечалось ожидаемое, т. е. то, которое собираются иметь.
8
У состоящих в зарегистрированном браке по сравнению с теми, у кого супружеские отношения не зарегистрированы, не только больше среднее число рожденных детей, но и существенно выше репродуктивные ориентации (табл. 4).
Среднее ожидаемое число детей у состоящих в зарегистрированном браке (2,00) на 0,43 больше, чем у тех, у кого супружеские отношения не зарегистрированы (1,57). У живущих вместе без регистрации брака оно даже меньше, чем у тех, кто состоял в браке раньше (1,76) и не состоял никогда (1,62). Среднее желаемое число детей у состоявших в браке ранее (2,90) чуть больше, чем у состоящих в зарегистрированном браке (2,86), но у живущих вместе без регистрации брака оно существенно меньше (2,55).
Таким образом, есть основания говорить о взаимосвязи регистрации супружеских отношений и репродуктивного поведения. Вероятно, отсутствие регистрации определяет ориентацию на меньшее число детей. Однако основной детерминантой здесь, видимо, является значимость семейной жизни, которая влияет и на брачное, и на репродуктивное поведение.
Еще одним фактором, определяющим относительно меньшее число рожденных детей у москвичек, выступает, если можно так сказать, поколенческая передача традиций малодетности.
В большинстве московских семей уже сравнительно давно сформировались нормы малодет-ности. А результаты нашего исследования, как и ряда других, проводившихся в разное время в разных регионах России, показывают существенную зависимость числа детей, репродуктивных ориентаций от числа детей в родительской семье ( табл. 5 ).
Почти во всех возрастных группах респонденток (кроме 45–49 лет) наибольшее среднее число рожденных детей фиксируется у женщин, выросших в родительской семье с тремя и более детьми, а наименьшее (кроме групп 25–29 и 45–49 лет) – у выросших в однодетных семьях.
У женщин, выросших в семьях с большим числом детей, не только больше среднее число рожденных детей, но и ниже средний возраст при рождении первого ребенка, меньше интервал между регистрацией брака и рождением первого ребенка (протогенетический интервал). У тех, кто был единственным ребенком в семье, средний возраст при рождении первого ребенка составляет 26,3 года; у тех, у кого в родительской семье было двое детей, – 25,7 года; трое и более детей – 25,6 года. У выросших в родительской семье с одним ребенком средний протогенетический интервал составляет 30,9 месяца, с двумя детьми – 24,1 месяца, с тремя и более детьми – 21,9 месяца.
Таблица 4. Среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей и возраст при рождении первого ребенка
|
Состояние в браке |
Среднее ожидаемое число детей |
Среднее желаемое число детей |
Разность |
|
Состоят в зарегистрированном браке |
2,00 |
2,86 |
0,86 |
|
Живут вместе (гражданский брак) |
1,57 |
2,55 |
0,98 |
|
Не состоят, но раньше состояли в браке (разведенные, вдовые) |
1,76 |
2,90 |
1,14 |
|
Никогда не состояли в браке |
1,62 |
2,51 |
0,89 |
Таблица 5. Среднее число рожденных детей в зависимости от возраста и числа детей в родительской семье
|
Возраст, лет |
Число детей в родительской семье |
||
|
один |
двое |
трое и более |
|
|
20–24 |
0,13 |
0,21 |
0,25 |
|
25–29 |
0,48 |
0,39 |
0,59 |
|
30–34 |
0,86 |
0,95 |
1,17 |
|
35–39 |
1,16 |
1,22 |
1,80 |
|
40–44 |
1,15 |
1,58 |
1,75 |
|
45–49 |
1,38 |
1,50 |
1,27 |
Таблица 6. Среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей у женщин в зависимости от числа детей в родительской семье
|
Число детей в родительской семье |
Среднее ожидаемое число детей |
Среднее желаемое число детей |
Разность |
|
Один |
1,76 |
2,64 |
0,88 |
|
Два |
1,78 |
2,64 |
0,86 |
|
Три и более |
1,99 |
3,07 |
1,08 |
У респонденток, выросших в семьях с тремя и более детьми, существенно выше среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей (табл. 6).
Среднее ожидаемое число детей у женщин, выросших в однодетных (1,76) и двухдетных (1,78) семьях, почти одинаково, а у выросших в семьях с тремя и более детьми – на 0,2 больше (1,99). Еще заметнее различия в среднем желаемом числе детей. У женщин, в родительских семьях которых был один ребенок или двое детей, оно совпадает, составляя 2,64, а у тех, кто вырос в семьях с тремя и более детьми, среднее желаемое число детей превышает 3 (3,07; см. табл. 6).
Казалось бы, более высокому уровню рождаемости в Москве мог бы способствовать относительно более высокий уровень жизни. В 2021 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Москве составляла 5,5%, что вдвое меньше, чем в целом по России (11,0%9). Однако результаты исследования (как и большинства проводившихся ранее) показали, что более высокий уровень жизни, относительно большие среднедушевые доходы сопряжены с меньшим числом детей (табл. 7).
В большинстве возрастных групп опрошенных женщин существенно большее среднее число рожденных детей имеет место в группе с наименьшими среднедушевыми доходами (до 20 тыс. рублей). Исключение составили только группы женщин 25–29 и 45–49 лет, в которых оно наибольшее при среднедушевых доходах от 20 до 50 тыс. рублей. Наименьшее среднее число рожденных детей, наоборот, в группе с наибольшими среднедушевыми доходами (свыше 80 тыс. рублей). Исключение составляют только возрастные группы 35–39 и 40–44 лет (см. табл. 7).
Из этого, конечно, не следует, что более низкие среднедушевые доходы определяют более высокую рождаемость и большее число детей. Во-первых, среднедушевые доходы учитываются на момент опроса, а не на момент рождения ребенка. Во-вторых, и это главное, представленные данные свидетельствуют лишь о наличии обратной связи между среднедушевыми доходами и числом рожденных детей, а не о влиянии доходов на число детей. Вероятно, наоборот, имеет место влияние числа рожденных детей на среднедушевые доходы. При большем числе детей, при прочих равных условиях, среднедушевой доход в семье в среднем меньше.
Таблица 7. Среднее число рожденных детей по возрастным группам женщин и среднедушевому доходу
|
Возраст, лет |
Какова сумма дохода Вашей семьи в расчете на одного члена семьи в месяц? (тысяч рублей) |
|||
|
до 20 |
от 20 до 50 |
от 50 до 80 |
свыше 80 |
|
|
20–24 |
0,41 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
|
25–29 |
0,67 |
0,69 |
0,32 |
0,17 |
|
30–34 |
1,56 |
1,00 |
0,69 |
0,60 |
|
35–39 |
2,08 |
1,21 |
0,67 |
1,11 |
|
40–44 |
2,06 |
1,28 |
1,11 |
1,50 |
|
45–49 |
1,24 |
1,53 |
1,11 |
1,10 |
9
Таблица 8. Среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей и среднедушевой доход
|
Среднедушевой доход, тысяч рублей |
Среднее ожидаемое число детей |
Среднее желаемое число детей |
Разность |
|
До 20 |
2,06 |
3,24 |
1,18 |
|
От 20 до 50 |
1,79 |
2,68 |
0,89 |
|
От 50 до 80 |
1,72 |
2,53 |
0,81 |
|
Свыше 80 |
1,66 |
2,50 |
0,84 |
Таблица 9. Среднее ожидаемое число детей в зависимости от среднедушевого дохода и желаемого числа детей
|
Среднедушевой доход, тысяч рублей |
Желаемое число детей |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
До 20 |
0,80 |
1,41 |
2,05 |
2,45 |
2,95 |
|
От 20 до 50 |
0,80 |
1,63 |
1,86 |
2,31 |
3,06 |
|
От 50 до 80 |
0,93 |
1,52 |
1,96 |
2,00 |
3,27 |
|
Свыше 80 |
1,00 |
1,50 |
1,81 |
2,50 |
3,57 |
Однако при более низком среднедушевом доходе характерно большее число не только рожденных детей, но и ожидаемых, и желаемых (табл. 8).
Обратим внимание, что в группе с самым низким среднедушевым доходом наибольшая разница между средним желаемым и ожидаемым числом детей. Она составляет 1,18, тогда как в остальных группах по доходу от 0,81 до 0,89.
Оценивая взаимосвязь среднедушевого дохода и репродуктивных ориентаций, нужно иметь в виду по крайней мере три обстоя- тельства.
Во-первых, уровень жизни вообще и доходы в частности влияют главным образом на условия реализации потребности в детях, в связи с чем корректно рассматривать это влияние на среднее ожидаемое число детей в группах, однородных по желаемому числу детей.
Во-вторых, на репродуктивное поведение в больше мере влияет, вероятно, не объективная характеристика уровня жизни, а его субъективная оценка.
В-третьих, желаемое число и ожидаемое число детей включают уже имеющихся детей, поэтому здесь имеет место не только влияние уровня жизни на репродуктивные ориентации, но и отчасти их влияние на уровень жизни.
Если в целом для всех опрошенных, независимо от желаемого числа детей, при более вы- соком среднедушевом доходе в среднем меньше ожидаемое число детей, то в группах, дифференцированных по желаемому числу детей, такой выраженной обратной связи нет (табл. 9).
У женщин с желаемым числом детей 1 и 5 можно говорить о прямой связи между среднедушевым доходом и средним ожидаемым числом детей. В остальных группах по желаемому числу детей выраженной связи между этими показателями нет.
И, конечно, важно отметить, что различия в величине среднего ожидаемого числа детей в зависимости от желаемого числа детей в груп- пах, однородных по среднедушевому доходу, несравненно больше, чем, наоборот, в зависимости от среднедушевого дохода в группах, однородных по желаемому числу детей. Т. е. потребность в детях в значительно большей мере дифференцирует репродуктивные намерения, чем среднедушевой доход.
Как уже отмечалось, вероятно, люди при определении степени благоприятности уровня жизни для реализации репродуктивных намерений учитывают не только и не столько величину доходов, сколько удовлетворенность ими.
Если со среднедушевым доходом связь среднего ожидаемого и желаемого числа детей обратная, то при использовании индикатора удовлетворенности доходами семьи обратная связь имеет место только со средним желаемым числом детей (табл. 10).
Таблица 10. Среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей и оценка удовлетворенности доходами
|
Оценка удовлетворенности доходами семьи в настоящее время (по 10-балльной шкале) |
Среднее ожидаемое число детей |
Среднее желаемое число детей |
Разность |
|
0–3 |
1,74 |
2,90 |
1,16 |
|
4–7 |
1,83 |
2,76 |
0,93 |
|
8–10 |
1,81 |
2,51 |
0,7 |
Среднее ожидаемое число детей мало различается в зависимости от степени удовлетворенности доходами семьи: оно немного больше при средней оценке и меньше при низкой. Среднее желаемое число детей наибольшее при наименьшей оценке удовлетворенности доходами, а наименьшее у тех, кто в наибольшей мере удовлетворен доходами. Соответственно, при худшей оценке удовлетворенности доходами имеет место большая разница в величине среднего желаемого и ожидаемого числа детей: 0–3 балла – 1,16; 4–7 баллов – 0,93; 8–10 баллов – 0,70 (см. табл. 10). Это логично, так как можно предполагать, что оценка удовлетворенности доходами влияет на восприятие условий реализации желаемого числа детей.
Учитывая такую зависимость разницы между средним желаемым и средним ожидаемым числом детей от оценок удовлетворенности доходами, можно предполагать наличие прямой связи между этими оценками и средним ожидаемым числом детей в группах, однородных по желаемому числу детей.
Наиболее существенная прямая связь между оценкой удовлетворенности доходами семьи и средним ожидаемым числом детей характерна для женщин, которые при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь двоих детей: при оценке удовлетворенности доходами 0–3 балла среднее ожидаемое число детей составляет 1,29; 4–7 баллов – 1,49; 8–10 баллов – 1,86. Прямая связь между оценкой удовлетворенности доходами семьи и средним ожидаемым числом детей имеет место и у тех, кто хотел бы иметь пять детей (табл. 11).
При желаемом числе детей, равном 1 и 3, различий в среднем ожидаемом числе детей в зависимости от оценки удовлетворенности доходами, по данным исследования, практически не выявлено. У тех, кто хотел бы иметь четверых детей, существенно меньшее среднее ожидаемое число детей зафиксировано при низкой оценке удовлетворенности доходами, а наибольшее – при средней.
Представленные данные свидетельствуют о наличии той или иной связи среднего ожидаемого числа детей со среднедушевым доходом, его оценкой. Однако, строго говоря, они не позволяют корректно говорить именно о влиянии уровня жизни на репродуктивные намерения. Учитывая, что ожидаемое число и желаемое число детей включают уже имеющихся детей, на характере связи может сказываться и влияние числа детей на параметры уровня жизни.
Избежать этого влияния и осуществить корректную оценку именно влияния доходов, удовлетворенности ими, жилищных условий на репродуктивные намерения можно только для тех, у кого детей еще нет.
Для опрошенных женщин, еще не имеющих детей, в группе с наименьшим среднедушевым доходом (до 20 тыс. рублей) характерно наибольшее среднее ожидаемое и желаемое число детей. Однако различия в величине этих показателей в других группах по величине среднедушевого дохода сравнительно невелики (табл. 12).
Таблица 11. Среднее ожидаемое число детей в зависимости от оценки удовлетворенности доходами и желаемого числа детей
|
Оценка удовлетворенности доходами семьи в настоящее время (по 10-балльной шкале) |
Желаемое число детей |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
0–3 |
0,88 |
1,29 |
1,93 |
2,14 |
3,00 |
|
4–7 |
0,90 |
1,49 |
1,93 |
2,47 |
3,08 |
|
8–10 |
0,85 |
1,86 |
1,95 |
2,40 |
3,38 |
Таблица 12. Среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей и среднедушевой доход у не имеющих детей
|
Среднедушевой доход, тысяч рублей |
Среднее ожидаемое число детей |
Среднее желаемое число детей |
|
До 20 |
1,82 |
3,26 |
|
От 20 до 50 |
1,44 |
2,31 |
|
От 50 до 80 |
1,53 |
2,31 |
|
Свыше 80 |
1,38 |
2,30 |
Как уже отмечалось, оценивать влияние среднедушевого дохода (как и других характеристик уровня жизни) на ожидаемое число детей целесообразно в группах, однородных по величине желаемого числа детей.
Почти во всех группах респонденток по желаемому числу детей у имеющих среднедушевой доход свыше 50 тыс. рублей среднее ожидаемое число детей больше, чем у тех, у кого доход не превышает 50 тыс. рублей (хотя у тех, кто хотел бы иметь двоих и четверых детей, различия невелики). Исключение составляют только те, кто хотел бы иметь троих детей: у них при меньшем доходе выше среднее ожидаемое число детей (табл. 13).
У не имеющих детей при более высокой оценке удовлетворенности доходами семьи больше, в среднем, ожидаемое число детей. По среднему желаемому числу детей связь, наоборот, обратная. При более высокой оценке доходов оно ниже. Соответственно, при более низкой оценке удовлетворенности доходами имеет место существенно большая разница между средним желаемым и средним ожидаемым числом детей (0–3 балла – 1,14; 4–7 баллов – 0,97; 8–10 баллов – 0,65), что логично, так как в этом случае женщины, вероятно, хуже оценивают возможности реализации потребности в детях, рождения желаемого числа детей (табл. 14).
Относительно большее, в среднем, ожидаемое число детей при более высокой оценке удовлетворенности доходом у не имеющих детей фиксируется и в большинстве групп женщин по желаемому числу детей (табл. 15) .
Таблица 13. Среднее ожидаемое число детей в зависимости от среднедушевого дохода и желаемого числа детей у не имеющих детей
|
Среднедушевой доход, тысяч рублей* |
Желаемое число детей |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
До 50 |
0,60 |
1,48 |
2,10 |
2,08 |
2,36 |
|
Свыше 50 |
0,92 |
1,52 |
1,73 |
2,17 |
3,00 |
|
*Из-за малочисленности групп респонденток, не имеющих детей, дифференцированных по среднедушевому доходу и желаемому числу детей, в данном случае выделяются только две группы по величине среднедушевого дохода. |
|||||
Таблица 14. Среднее ожидаемое и среднее желаемое число детей и оценка удовлетворенности доходами у не имеющих детей
|
Оценка удовлетворенности доходами семьи в настоящее время (по 10-балльной шкале) |
Среднее ожидаемое число детей |
Среднее желаемое число детей |
Разность |
|
0–3 |
1,38 |
2,52 |
1,14 |
|
4–7 |
1,47 |
2,44 |
0,97 |
|
8–10 |
1,69 |
2,34 |
0,65 |
Таблица 15. Среднее ожидаемое число детей в зависимости от оценки удовлетворенности доходами и желаемого числа детей у не имею щих детей
|
Оценка удовлетворенности доходами семьи в настоящее время (по 10-балльной шкале)* |
Желаемое число детей |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
0–5 |
0,80 |
1,13 |
1,89 |
2,40 |
2,00 |
|
6–10 |
0,77 |
1,61 |
1,97 |
2,00 |
3,17 |
|
*Из-за малочисленности групп респонденток, не имеющих детей, дифференцированных по оценке удовлетворенности доходами семьи и желаемому числу детей, в данном случае выделяются только две группы по оценке удовлетворенности доходами семьи. |
|||||
У женщин, у которых пока нет детей и которые хотели бы при наличии всех необходимых условий иметь двоих, троих или пятерых детей, среднее ожидаемое число детей больше при более высокой оценке удовлетворенности доходом. Если при желаемом числе детей, равном 3, различия сравнительно невелики, то у тех, кто хотел бы иметь двоих или пятерых детей, они существенны. При этом отметим, что если пятерых детей при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь 11,1%, то двоих – 30,8%, и это самая большая группа по желаемому числу детей среди тех, у кого детей пока нет (троих детей хотели бы иметь 25,0%).
Меньшее среднее ожидаемое число детей при более высокой оценке удовлетворенности доходами семьи характерно только для тех женщин, которые при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь одного или четырех детей. При этом, видимо, нужно иметь в виду, что различия в среднем ожидаемом числе детей в зависимости от оценки удовлетворенности доходами у тех, кто хотел бы иметь одного ребенка, совсем невелики (0,03), а средние ожидаемые числа детей у них рассчитаны для маленьких совокупностей женщин (оценка удовлетворенности доходами на 0–5 баллов – у 5 женщин, на 6–10 баллов – у 13).
Вновь отметим, что различия в среднем ожидаемом числе детей в группах респонденток с одинаковым доходом или его оценкой в зависимости от желаемого числа детей несравненно больше, чем в группах с одинаковым желаемым числом детей в зависимости от дохода или его оценки (см. табл. 13 и 15). Т. е. потребность в детях в значительно большей мере дифференцирует репродуктивные намерения, чем среднедушевой доход.
Желаемое число детей в значительной мере определяется ценностными ориентациями. В ходе социологического исследования были выделены две крайние группы респонденток: ориентированные на семью и ориентированные на индивидуальные ценности. В первую группу вошли те, кто оценил на 5 баллов значимость жизни в зарегистрированном браке и на 1 балл значимость ценности «быть свободной, независимой и делать то, что хочу только я». Во вторую группу, наоборот, включаются те, кто оценил на 5 баллов значимость ценности «быть свободной, независимой и делать то, что хочу только я» и на 1 балл значимость жизни в зарегистрированном браке. В первую группу вошли 46 респонденток, во вторую – 67.
В группе ориентированных на семью среднее ожидаемое число детей составляет 2,20, а в группе ориентированных на индивидуальные ценности – 1,30. Еще больше различия по среднему желаемому числу детей – соответственно, 3,33 и 1,90. Если в исследовании, проведенном в Москве, среди респонденток из двух крайних групп по ориентации на семью и индивидуальные ценности 40,7% ориентированных на семью и 59,3% на индивидуальные ценности, то, например, по данным Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 2022 году, среди двух этих крайних групп респонденток доля ориентированных на семью составила 87,7%, а на индивидуальные ценности – 12,3%.
Обсуждение и заключение
Таким образом, факт повышения рождаемости у городских жителей не подтверждается расчетами показателей рождаемости для реальных поколений женщин, в том числе в крупнейших мегаполисах страны – Москве и Санкт-Петербурге. Социологическое исследование подтверждает влияние традиционных факторов (отношение к браку, уровень образования, материальное положение) на репродуктивные стратегии москвичек.
Об оценке влияния дохода на репродуктивные намерения в группах, однородных по потребности в детях, писал, например, В.М. Мед-ков: «Методически правильно анализировать связь дохода и результатов репродуктивного поведения только в группах с одинаковой потребностью в детях и с одинаковым соотношением семейных и внесемейных ориентаций, поскольку только в таких однородных группах можно в чистом виде изучать влияние различных социально-экономических факторов» (Мед-ков, 1983). Необходимость рассматривать влияние условий жизни на рождаемость с учетом дифференциации потребности в детях отмечал В.А. Борисов, но применительно не к доходу, а к жилищным условиям: «Основной недостаток проведенных до сих пор исследований, как нам представляется, состоит в том, что исследователи фактически ищут непосредственную связь между жилищными условиями и рождаемостью, аксиоматически полагая одинаковую потребность в детях у респондентов…» (Борисов, 1976).
В.А. Борисов писал: «Номинальная величина дохода еще не дает представления о благосостоянии семьи без учета различий в уровне потребностей и динамики их развития» (Борисов, 1976, с. 152–153). По мнению В.М. Медкова, «гораздо большую роль в детерминации предпочитаемых чисел детей должен, вероятно, играть не сам по себе доход семьи, а ориентации на желаемый уровень дохода и степень удовлетворения доходом имеющимся» (Антонов и др., 2002, с. 85). В.А. Белова и Л.Е. Дар-ский подчеркивали: «Именно субъективная оценка материального положения лежит в основе планирования семьи» (Белова, Дарский, 1968, с. 35). Р.И. Сифман отмечала: «С теоретической и методической точек зрения при изучении влияния дохода семьи на число рождений у женщины важно исходить из твердо установленного сейчас в демографических исследованиях положения, что влияние оказывает не абсолютный размер дохода, а его оценка семьей»
(Сифман, 1976, с. 88). То есть вывод о том, что доходы существенно меньше детерминируют репродуктивные намерения, чем потребность в детях, следует принимать во внимание при разработке прогнозов и мер демографической политики. Вместе с тем влияние уровня доходов на степень реализации репродуктивных намерений доказано: чем выше удовлетворенность доходами, тем меньше разность между желаемым и ожидаемым числом детей.
Неоспоримо и влияние ценностных ориентаций. Значительно более высокая доля жительниц Москвы, ориентированных на индивидуальные ценности, по сравнению с общероссийским исследованием, определяет более низкий уровень рождаемости (если говорить о показателях рождаемости в реальных поколениях) в столичном мегаполисе. Характерно, что малодетность закрепляется и транслируется: для москвичек имеет место особый фактор – поколенческая передача традиций малодетных семей. Учет данных тенденций рождаемости и особенностей репродуктивного поведения москвичек может способствовать повышению эффективности демографической политики.
Список литературы Особенности репродуктивного поведения жительниц Москвы
- Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. (2002). Демографические процессы в России XXI века. 168 с.
- Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Джанаева Н.Г. (2021). Дети или материальный достаток: детерминация выбора // Уровень жизни населения регионов России. Т. 17. № 1. С. 102–120. DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.1.8
- Архангельский В.Н., Зинькина Ю.В., Шульгин С.Г. (2019). Рождаемость у женщин с разным уровнем образования: текущее состояние и прогнозные сценарии // Народонаселение. Т. 22. № 1. С. 21–39.
- Бегинина И.А., Калугина Т.А. (2018). Особенности репродуктивных установок сельских женщин // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. № 4. 413–418.
- Белова В., Дарский Л. (1968). Мнения женщин о формировании семьи (по данным специального опроса работниц нескольких московских предприятий) // Вестник статистики. № 8. С. 27–36.
- Блинова Т.В., Вяльшина А.А. (2012). Репродуктивные предпочтения сельских женщин и ценность детей в семье // Промышленность: экономика, управление, технологии. № 4 (43). С. 165–170.
- Борисов В.А. (1976). Перспективы рождаемости. М.: Статистика. 248 с.
- Денисов А.Ю. (2015). Специфика и значение репродуктивного поведения городского населения Беларуси // Социологический альманах. № 6. С. 165–171.
- Жук Е.И. (2016). Репродуктивные установки москвичей молодого и среднего возраста // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 1. С. 156–174. DOI: 10.14515/monitoring.2016.1.06
- Медков В.М. (1983). Уровень жизни и репродуктивное поведение двухдетной городской семьи // Социально-демографические исследования брака, семьи, рождаемости и репродуктивных установок. Ереван. С. 138–139.
- Новосёлова Е.Н. (2014). Традиционная семья в большом городе: социальный атавизм и необходимая ценность // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. № 4. С. 130–150.
- Русанова Н.Е. Ожиганова А.А. (2022). Репродуктивные стратегии российских женщин: результаты пилотного опроса // Народонаселение. Т. 25. № 4. С. 55–67. DOI: 10.19181/population.2022.25.4.5
- Сивоплясова С.Ю., Сигарева Е.П., Архангельский В.Н. (2022). Уровень жизни и рождаемость: взаимосвязь двух неравенств на макро- и микроуровнях // Экономика. Налоги. Право. № 15(3). С. 38–51. DOI: 10.26794/1999-849X-2022-15-3-38-51
- Синельников А.Б. (2015). Влияние брачности на рождаемость и демографическая политика в России // Семья и социально-демографические исследования. Научный интернет-журнал. № 4. С. 1–17.
- Синельников А.Б. (2019). Трансформация брака и рождаемость в России. // Народонаселение. № 2. С. 26–39.
- Сифман Р.И. (1976). Рождаемость и материальная обеспеченность // Рождаемость / под ред. Л.Е. Дарского. С. 76–92.
- Степанова А.В. (2014). Демографическое развитие Москвы в начале 2000-х годов // Уровень жизни населения регионов России. № 4. С. 103–112. DOI: 10.12737/7406
- Шабунова. А.А. (2010). Здоровье населения в России: состояние и динамика: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН. 408 с.
- Frejka T., Sardon J.P. (2005). First birth trends in developed countries: Persisting parenthood postponement. Demographic Research, 6(15),147–180.
- Gustafsson S., Worku S. (2005). Assortative Mating by education and postponement of couple formation and first birth in Britain and Sweden. Review of Economics of the Household, 3, 91–113.
- Gustafsson S. (2005). Having Kids Later. Economic analyses for industrialized countries. Review of Economics of the Household, 3, 5–16.
- Lappegård T., Rønsen M. (2005). The multifaceted impact of education on entry into motherhood. European Journal of Population, 21, 31–49.
- Marini M.M. (1984). Women’s educational attainment and the timing of entry into parenthood. American Sociological Review, 49, 491–511.
- Sobotka T. (2004). Postponement of Childbearing and Low Fertility in Europe. Groningen and Amsterdam: Rijksuniversiteit Groningen and Dutch University Press.