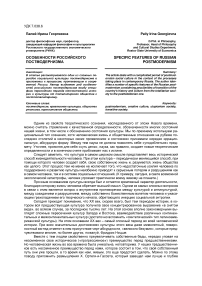Особенности российского постмодернизма
Автор: Палий И.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается один из сложных периодов социальной культуры постмодернизма в приложении к процессам, протекающим в современной России. Автор выделяет ряд особенностей российского постмодернизма ввиду специфики переходного периода отечественной истории и культуры от тоталитарного общества к посттоталитарному.
Постмодернизм, креативная культура, общество утопизма, транзитивное общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14940984
IDR: 14940984 | УДК: 7.038.6
Текст научной статьи Особенности российского постмодернизма
Одним из свойств теоретического сознания, наследованного от эпохи Нового времени, можно считать стремление к качественной определенности, обозначенности многих состояний нашей жизни, в том числе к обозначению состояния культуры. Мы по-прежнему используем рациональный тип сознания, хотя человеческая жизнь и общественные отношения на рубеже последних столетий в некоторых своих проявлениях и состояниях принимали нередко иррациональную, абсурдную форму. Между тем наука не должна позволять себе «уподобляться» предмету. Уточняя, проясняя для себя «суть дела», наука, как правило, создает новые теоретические определенности и в конечном счете приближает нас к истине.
Следует заметить, что культура в самом широком смысле представляет весь исторический способ жизнедеятельности человека. При этом культура – периодически меняющийся способ, при помощи которого человек создает себя, свою собственную жизнь и, разумеется, жизнь общества как целого. Этот процесс тем не менее не исключает того, что недостаточные усилия человека по поддержанию и развитию культуры неизбежно приводят к серьезным потерям и разрушениям как в самом человеке, так и в системе социальных отношений. (К примеру, сегодня, в свете возможной экологической катастрофы, человек угрожает практически всему живому на планете.)
Прочным основанием культуры всегда был и остается креативный характер деятельности, благодаря которому жизнь человека обретает высший смысл. Одним из самых сложных вопросов в связи с этим является вопрос о внутреннем противоречии между культурой и антикультурой, между созиданием и разрушением, между собственно божественным взлетом человека и ужасающим грехопадением его творческого начала, обретающего инерцию социальной энтропии.
Сегодня приходит понимание, что ХХ век, скорее всего, был тем периодом истории, в котором вся предшествующая культура получила свое концентрированное выражение «в снятом виде», во всяком случае, за последнюю тысячу лет. На этой основе вполне закономерными выглядят сложные пересечения культур Запада и Востока, взаимодействие различных континентальных и межконтинентальных культур (достаточно вспомнить «синтетический» тип латиноамериканской культуры). На этом основании ХХ век – самый сложный период во всей человеческой истории. При всех значительных достижениях культуры этого века даже мимолетный, поверхностный взгляд отметит в нем присутствие черт абсурдности, «великого безумия», которые предчувствовали многие, но более других, пожалуй, Фридрих Ницше.
Вместе с тем людям свойственно преувеличивать собственные беды, нередко уповая на несомненное свое историческое («прогрессивное») преимущество перед предшественниками. Но человеческая жизнь во все времена была уникальна, неповторима. У наших предшественников есть несомненное преимущество перед нами, которое состоит в том, что свой собственный путь они уже прошли, в то время как нам, живым, это еще предстоит сделать. Можно по этому поводу припомнить размышления Х. Ортеги-и-Гассета, который завещал нам лучше и глубже узнавать своих предшественников, так как это есть несомненное условие того процесса, при котором мы только и можем узнавать самих себя. Но не следует забывать, что даже самое глубокое знание истории никогда не укажет, куда нам идти, однако оно безошибочно может открыть, куда нам не следует двигаться.
Еще в 60-х гг. прошлого века отечественная аналитическая литература захлебывалась в негодовании относительно ««безумных» видений западных художников-абстракционистов, издевалась в критических опусах над «ненормальностями» в произведениях Кафки или Джойса. Но не так давно нам представилось, что постмодернизм - своеобразный культурный диагноз человеческой экзистенциальности, и это стало ясно в тот самый момент, когда расщепленность, потерянность, отчужденность человека стали с очевидностью проступать на поверхности и российского бытия.
Историческая ситуация в эпоху позднего и распадающегося советского тоталитаризма кардинально отличалась от всего того, что наблюдалось на Западе. Здесь не было ни общества открытого типа, ни развитого плюрализма в системе политических отношений, ни изобилия в области потребления, ни электронного бума, преобразующего жизнь и психику людей специфическим образом. Однако важнейшие симптомы постмодернистского мышления (к примеру, лабиринтность или уклончивость смыслов, их разорванность и алогичность, противоречие между идеологическими установками и не соответствующей им реальностью общества) получили отражение в советской независимой культуре. К примеру, в работах М. Эпштейна, исследующего сознание «Гомо Советикус», нашли свое талантливое развитие идеи Достоевского и Бердяева о «неприкаянности» национального характера и о странности национальной судьбы людей, словно потерявшихся в своей катастрофической истории и в своем бескрайнем геополитическом пространстве.
В свое время Ж.-П. Сартр, рассматривая свободу сквозь призму философского экзистенциализма, пришел к выводу, что свобода есть тяжкое бремя личности, но только она одна и может ее осуществить. Человек может отказаться от своей свободы, или ее могут отнять, но в этом случае человек перестает быть самим собой, он становится «как все».
Этот безличный мир был миром и позднего социализма, экзистенциальной историей советского общества. В этом мире как будто отсутствовали субъекты действия, действовали лишь объекты, объективированные государственные органы управляли объективированными массами людей. Это был мир, в котором никто ничего не решал по сути, а потому не нес ответственности - человек здесь лишь исполнял волю власти. Причем на первый взгляд казалось, что именно власть обременена колоссальной ответственностью, но эта кажимость лишь выражала почти полное отсутствие ответственности власти перед обществом, а в особенности перед отдельным человеком. Сама власть оказывалась заложницей собственных абсурдных действий, так как, не умея управлять людьми, но управляя массами как объектами, сама она неизбежно объективировалась, утрачивая в себе личностно самостоятельную ответственность каждого политика. Власть превращалась в общественно значимую волю, теряя политическую разумность. Там, где личность заменяется партией, а генеральный секретарь становится ее персонифицированным выражением, от личности самого руководителя почти ничего не зависит, да и сама личность руководителя утрачивается за ненадобностью. Это и есть одно из проявлений отечественного политического абсурда как хронического заболевания российской власти. К сожалению, в очень большой степени мы не избавились от этого недуга и поныне. Сегодня нам во многом сложнее, так как прежний мир рухнул за довольно короткий период времени, а новый мир действительной свободы как возможного воплощения творческих сил человека пока не выстроен.
Очевидно, что в мире подлинной культуры человек должен являться целью и стержнем любых творческих созиданий, но в общественной культуре тоталитаризма, равно как и в культуре авторитарного общества, человек всегда выступает лишь средством, материалом для каких угодно экономических или политических экспериментов. В этом случае культура становится отчужденной, превращенной формой культуры.
На личность, психику и культуру огромное влияние при тоталитаризме оказывала странная двусмысленность политической власти. С одной стороны, абсолютность и тоталитарность власти сочетались с ее «спрятанностью», секретностью, как пишет А. Якимович. За явными, лежащими на поверхности постановлениями, указами и директивами в условиях строжайшей секретности выносились негласные распоряжения партии, велась тайная переписка, засекречивалось истинное положение дел в экономике и социальной жизни страны. Вместе с тем сама идея возможного осуществления «светлого будущего для всех», несомненно, вызывала невиданный подъем энтузиазма масс на определенном этапе советской истории. Но постепенно средства и цели в ходе строительства коммунизма менялись местами. Колоссальные усилия, затраты и издержки в абсурдной попытке воплощения утопической идеи в действительность оборачивались антиутопией реального общества. То общество социализма, в котором рождались и жили люди в России ХХ в., становилось обществом реального утопизма. И не следует думать, что современный «постперестроечный» период России - период принципиально иной. В лучшем случае сегодня мы пребываем в так называемом «транзитивном» состоянии утопической истории.
В обществе утопизма политический тоталитаризм, разрушая основные политические противоположности между «свободой» и «несвободой», в конечном счете сам оказывается заложником «логики абсурда» - его историческая обреченность предопределена им самим. В результате советский человек существовал в условиях своеобразной тотальной диктатуры, которая, призывая людей к свершению трудового подвига, фактически осуществляла тотальное насилие. И если в начале пути, вдохновляясь возможным подвигом «во имя светлого будущего», люди испытывали подъем творческих сил, то с течением временем, понимая абсурдность, бессмысленность своих усилий, они испытывали разочарование и апатию. Подчинение и порабощение не могут заставить человека ответственно относиться к каким бы то ни было обязанностям, скорее наоборот - лишь развивают предельную необязательность и тотальный «анархизм», являющийся оборотной стороной тотального порабощения.
Неверность, зыбкость «абсолютности» политической власти, которая оказывается бессильной на вершине собственного могущества, - одна из главных тем независимого советского искусства, которое пробивало себе в свое время чудовищно сложный путь. В данном контексте можно вспомнить фильмы Ю. Германа, прозу Е. Попова, В. Пьецуха или Л. Петрушевской, великую музыку А. Шнитке и др. Благодаря этим талантливым, гениальным людям мы все же имели возможность увидеть странную гримасу нашего бытия, где власть при всей своей мощи убога и комична, где, казалось бы, полное торжество и триумф власти оборачиваются ее полным поражением, так как в своей силе сомневается даже она сама и никто не принимает ее за образец действительной власти.
Анархическое рабство и могущественное бессилие вряд ли могли быть понятны в былые времена Аристотелю или Канту. Реальный социализм в свое время апробировал и утвердил своеобразную логику социальности - «логику ирреальности», абсурдности человеческого существования. Но в этих условиях продолжала развиваться независимая культура, с огромными трудностями отвоевывавшая свое место в обществе. Это оказывалось возможным, потому что данная культура была востребована определенными слоями советского общества, она отражала их внутренние духовные потребности, но она же формировала независимое мышление, дух свободы в личностях нового поколения. Рядом с независимой культурой, точнее вокруг нее, существовал «океан» официально идеологизированной, легитимной культуры, отражавшей интересы правящего класса, утверждавшей во всех правах чиновно-бюрократический слой общества.
В результате это существование и явное противостояние двух культур объективно создавало условия своеобразной идеологической пустоты между ними. Это специфическое «место» псевдокультуры заполнялось и расширялось за счет мировоззрения люмпенизированного, маргинального населения страны, которое именно в крайне кризисные 90-е гг. прошлого века вылилось на улицы, заполнило собою все поры разрушающейся как элитарной, так и официально легитимной культуры. Это массовое проявление нельзя в строго научном смысле назвать массовой культурой, в основе которой лежит, как известно, безудержный рост потребления. Это явление, скорее всего, можно обозначить по содержанию как псевдокультуру, эрзац-культуру, проявляющую себя в массовидной форме в период тяжелейшего кризиса, приведшего к распаду страны.
Этот процесс происходил постепенно. Последние десятилетия своего существования Советский Союз был обществом маргиналов по преимуществу: деревни, которые директивно объявлялись городами, крупные города, наводненные сельскими жителями, образовавшими социальную «взвесь», в которой множество людей оказались «пришельцами», оторванными от своей социальной среды, от своих «корней». Неприкаянный герой-маргинал становится ключевой фигурой в произведениях Айтматова и Пичула, Муратовой и Балаяна, многих других авторов, работы которых так и не вышли в свет, а распространялись лишь в «списках».
Определенный взлет независимой советской культуры и искусства можно объяснить противостоянием по отношению к официальной культуре, с одной стороны, и неприятием маргинальной псевдокультуры - с другой. По этой причине, как полагал М. Лифшиц, в реальной человеческой истории нередко темная и ограниченная сторона может создать условия для «яркости света», для подъема неограниченных сил человеческого творчества.
На создателей художественной культуры действовала реальность «исторического бреда», как в свое время выразился Герцен. Именно она, эта абсурдная реальность, способствовала возникновению ментальности социалистического типа с ее двойным сознанием, с психологией отчужденного от самого себя человека. Но эта же действительность создала художественную ментальность, обладатели которой оказались так преданы одному из главных мифов ХХ в. - эсхатологическому мифу.
Ядром этого мифа является «архетип» гибели-спасения. Концептуальный эсхатологизм моделирует распадающееся, сумеречное сознание. Здесь нельзя отличить живое от мертвого, манекен от человека. И в свое время кинофильмы Абуладзе, Абдрашитова, Муратовой, последние фильмы Иоселиани стали концентрированно-идеологическим воплощением темы гибели, умирания заживо. Но нагнетание безнадежности приводит тем не менее, по логике эсхатологического мифа, к звучанию голоса надежды. Луч света начинает разгораться именно тогда, когда герои и автор убеждаются, что их земные надежды несостоятельны и ничто их не спасет. Распад неизбежен, апокалипсис приближается или уже наступил. Как точно заметил кто-то из современников, таков парадокс тоталитаризма: его конец вызывал чувство «конца света» даже у тех, кто жаждал его падения. Эти чувства были, по всей вероятности, близки тем, кто испытывал их однажды, наблюдая падение Рима. Непреодолимое желание большевиков в начале ХХ в., воплощенное как цель в строке «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…», в конце столетия обернулось тотальным разрушением социалистического мира. Это оказалось блестящим подтверждением проявления «цикличности» социального абсурда. В нашем отечестве ХХ в. то, что казалось творческим подъемом революционных масс, явилось в результате нивелированием и разрушением отдельной личности.
Сегодня мы переживаем тяжелейший период «посттоталитарного перехода», который в общих чертах уже обозначен в культурных явлениях постмодернизма. Но при этом стоит отметить существенную разницу между постмодернизмом западных развитых стран и постсоветским постмодернизмом. Если в социальной сфере Европы и США постмодернизм соответствует обществу потребления и массмедиа (средств массовой коммуникации и информации), основные характеристики которого укладываются в структуру социальной стратификации, где уровень прежде всего материального потребления выступает основным критерием деления на социальные слои, то в современной России есть своя специфика. Здесь уже имеют место слой очень богатых людей (правда, весьма немногочисленный) и многочисленные массы людей крайне бедных. Если человек западного постмодерна отказывается от самоограничения и тем более аскетизма, столь почитаемых когда-то протестантской этикой, не слишком задумываясь о дне завтрашнем и тем более о далеком будущем, так как главным стимулом для него становится профессиональный и финансовый успех сегодня, то для россиянина вообще нет культурной проблемы выбора. Это связано с тривиальной проблемой «выживания», добыванием «куска хлеба» и, следовательно, также жизнью «одного дня».
В целом мироощущение человека постмодернизма можно охарактеризовать как неофатализм, при котором человек вообще перестает ощущать себя хозяином своей судьбы, перестает быть «человеком, сделавшим сам себя». Отсюда утрачивается интерес к целям. П. Рикер отмечает, что в наши дни наблюдается «гипертрофия средств и атрофия целей». Весьма распространенным становится разочарование в идеалах и ценностях, а отсюда ощущение украденного будущего. Человек вообще утрачивает чувство ответственности. Можно сказать, то, что обозначи-вал З. Фрейд как сверхразум во внутреннем мире человека, вообще становится лишенным смысла. Наибольшее распространение получает человек абсурда в обществе абсурда, где этика уступает место эстетике гедонизма, то есть чувственным и физическим наслаждениям. В культурной сфере господствует массовая культура, особое место в которой занимают мода и реклама. Однако мода мимолетна и эфемерна. Именно поэтому культуру постмодерна можно назвать эрой пустоты и империей эфемерного.
А что же в поле постсоветского и постсоциалистического пространства? Здесь все обстоит несколько иначе, нежели в западных странах.
Сегодня мы переживаем тяжелейший период посттоталитарного разрушения. В свое время на обломках Рима возникла Европа. На обломках Союза и социализма должна возникнуть новая Россия. И черты ее будущего проявляются уже сегодня. Мы слишком долго жили исключительно будущим, как выяснилось - иллюзорным будущим, вырабатывая и культивируя в себе утопическое сознание, с «успехом» воплощающееся в реальном социальном утопизме. В итоге мы выстроили мир экономического и политического абсурда, который не мог быть долговечным по определению, который был обречен на саморазрушение, что и произошло и в большой мере все еще происходит и в наши дни.
Современная Россия - поразительно эклектичное общество. Мы несем в себе странную, почти неправдоподобную «смесь» черт культуры модернизма, постмодернизма и чего-то особенного, присущего только нам и никому другому, т. е. своеобразного традиционализма. Пожалуй, в этом смысле Россия сегодня - один из самых сложных социальных и культурных организмов.
После распада Союза мы не вполне оказались в поле массовой культуры, равно как и в мире развитого потребления, так как последний связан с миром массового производства. В нашем отечестве после обрушения советской экономики и после ее коллапсирующего состояния о развитом производстве говорить не приходилось и во многом не приходится говорить в последние двадцать лет. И при этом в процессе переориентации экономики производящей в экономику добывающую мы стали потреблять товары исключительно зарубежного производства. Если при этом учесть разрыв между слоем немногочисленных элитарных потребителей и подавляющим большинством населения страны, то станет ясно, что последние с их минимальными возможностями потребления отнюдь не стимулируют отечественную экономику в направлении ее развития.
Кроме того, в современной России мы вряд ли встретим распространенный на Западе тип «яппи», для которого несомненной ценностью является действительно высшее образование. И связано это с российским парадоксом, при котором формально востребованное высшее образование не выдерживает никакой критики относительно его качественного содержания. Сегодня абсолютное большинство вузов скорее выдают дипломы об образовании, нежели готовят действительно образованных людей. Причин тому много. Но основной, как нам кажется, является отсутствие высокотехнологичных производств, где могли бы быть востребованы образованные специалисты высокого класса, как следствие – низкий уровень современой науки и образования. Другой причиной выступает чудовищный разгул коррупции во всех структурных подразделениях современного российского общества. Наконец, в России наблюдается невиданный разрыв между столицей и провинциями. Можно сказать, что в Москве сегодня как в кривом зеркале отражается постмодернизм Запада, в то время как во всей России традиции перемежаются с процессами их деформации и видоизменения (здесь господствует своего рода провинциальный постмодернизм Востока). Уровень жизни в Москве и остальной России невозможно сравнивать. И вместе с тем в России, при всей кажущейся сложности жизни населения (пьянстве, асоциальности и т. п.), сохраняется здоровое начало в слоях провинциальной интеллигенции, городского населения, людей искусства.
После обрушения официальной идеологии «свято место» не могло длительно оставаться пустым. И при отсутствии новой идеологии ее стали восполнять, казалось бы, традиционные мировоззренческие системы, к примеру религиозные. И здесь вновь проявляет себя некий парадокс. При внешне массовой религиозности вряд ли стоит говорить о возрождении истинной веры населения. Доказательством тому является весьма низкий уровень нравственности и этически развитых ориентиров в современном российском обществе. Религия в современной России выступает скорее социальным регулятивом организации веры, а церковь является главным институтом, служащим социальной организации религии, – с одной стороны, и испытывающим тяготение к тому, чтобы регулировать основные социальные процессы, вплоть до политических, – с другой. Кстати, последнее возможно прежде всего потому, что светские чиновные структуры сами демонстрируют тяготение к церкви. Но этот процесс обусловлен, как кажется, прежде всего уклонением чиновного класса от ответственности перед обществом.
В результате возможного ослабления светских форм управления вполне вероятным становится вытеснение их теократическими структурами власти. Однако этот процесс может лишь усложнить, но не разрешить и без того напряженную ситуацию, так как в России тяготение к власти наиболее сильного религиозного института может вызвать опасность смуты в условиях реальной многоконфессиональности населения. Кроме того, немаловажным вопросом является вопрос о культуре веры. Одно дело – вновь возродившаяся вера слоя интеллегенции, носители которого все еще живы. И при разочаровании и личном кризисе эти люди вполне могут обрести религиозную веру. И совсем другое дело – слои маргиналов, которые в нынешних социальных условиях России относятся к вере и религии весьма «потребительски». Здесь церковь выступает для населения скорее заменителем утраченных былых социальных гарантий, играет роль эрзаца общественного единства.
Что же касается политической власти, то здесь усматривается весьма интересная с точки зрения теории тенденция. Политическая система в современной России обретает черты скорее западного постмодернизма, нежели политической традиции. Причем весьма непростая ситуация в нынешнем обществе (связанная как с прежним кризисом, так и с кризисом новым, мировым) требует с необходимостью сосредоточиться на обретении профессиональных знаний и умений по управлению страной, что только укрепит характер российского политического менеджмента в ближайшем будущем.
Учитывая все вышесказанное, можем сделать вывод, что в современной России необходимо решить невероятно сложные задачи по реализации нормального человеческого общества. Главным ориентиром на этом пути оказывается возвращение к своей национальной и мировой культуре, к процессу необходимой «адсорбции» всего того лучшего в культуре, что можно использовать сегодня. Следует вновь вернуться к тому, что намечалось в русской культуре как тенденция, но так в полной мере и не было осуществлено, а именно: движение к общечеловеческим ценностям мировой культуры, их переосмысление и синтез, утверждение приоритетности их в реальном существовании. Для начала следует усвоить замечательную мысль Карла Поппера.
Гениальная простота его идеи состоит в том, что «история заканчивается сегодня. Мы можем извлечь из нее уроки, однако будущее – это вовсе не продолжение и не экстраполяция прошлого. Будущее еще не существует, и именно это обстоятельство налагает на нас огромную ответственность, так как мы можем влиять на будущее, можем приложить все силы, чтобы сделать его лучше. Для этого мы должны использовать все, чему научились в прошлом» [1, с. 486].
Поразительно, но сегодня возникает сильное подозрение, что «театр социального и человеческого абсурда» есть неизбежное проявление абсурда политического, который обнаруживает себя в несомненной убежденности власти в единственной правильности и истинности своих решений. На этой основе усиливающаяся иррациональность механизмов управления неизбежно обретает статус объективно абсурдной нормы существования общества. И суть абсурдности нынешнего существования кроется в том, что мы, сменив все мыслимые «вывески» наличной власти, так и не изменили, по сути, методы и механизмы управления. В результате Россия оказывается в поле реального постмодернистского времени своего бытия, где реально существующая политическая система управляет страной, которой уже нет, то есть во многом власть управляет страной-фантомом, а наличная страна живет в надежде о власти, которой еще нет.
Единственным выходом из состояния абсурда может быть путь возвращения человека в состояние креативности его духа и деятельностной сущности. А это может быть связано только с воспитанием и образованием, с процессом возвращения к «своим культурным истокам».
Немаловажную роль в возможности социального и человеческого очищения может сыграть понимание того, что мы есть такое на самом деле. Это прозрение – путь к действительной культуре, к процессу творения человеком самого себя, к преодолению нынешнего мирового и отечественного кризиса, к выходу из абсурдности эпохи постмодернизма.
Ссылки:
1. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
Список литературы Особенности российского постмодернизма
- Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992