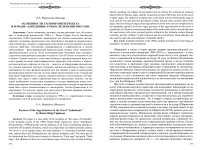Особенности сагового интертекста в романе "Ангедония" Рунара Хельги Вигниссона
Автор: Маркелова Ольга Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена частному случаю рецепции «саг об исландцах» в исландской романистике 1990-х гг. Роман Рунара Хельги Вигниссона «Ангедония» (1990) продолжает характерную для текстов исландского постмодернизма тенденцию иронического или пародийного восприятия древнеисландской литературы, которая в современной исландской культуре обладает высоким статусом. Действие «Ангедонии» разворачивается в современности, в центре повествования - фрустрированный нерешительный юноша, тёзка знаменитого древнеисландского скальда Эгиля Скаллагримссона. Основную часть интертекстуального плана романа составляют отсылки к «Саге об Эгиле» и частично «Саге о Ньяле». Однако отсылки к этим известнейшим в древнеисландской прозе текстам в романе не носят сюжетообразующего характера. Они сводятся к общеизвестным цитатам и образам из этих саг - зачастую не обнаруживая прочной связи с самими древними текстами. Очевидно, предметом рецепции в таком случае оказываются не сами древнеисландские саги как таковые и даже не предыдущая интерпретация древних текстов, но лишь общие представления о них. Однако при всей своей «призрачности», саговые слишком заметны в тексте романа, чтоб пренебречь ими. Даже в таком отрывочном виде их присутствие значимо, так как задает необходимое читательское восприятие и создает напряжение между саговыми персонажами (отношение к которым в исландской культуре на протяжении веков было строго положительным) и «антигероем» Эгилем Гримссоном и его окружением. Эти отсылки, кроме того, выступают в функции маркеров, призванных подчеркнуть его исландскую идентичность.
Исландская литература 1990-х гг., современный исландский роман, саги об исландцах, рецепция, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149139267
IDR: 149139267 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_372
Текст научной статьи Особенности сагового интертекста в романе "Ангедония" Рунара Хельги Вигниссона
Обращение к сагам, а также другим жанрам древнеисландской словесности в исландской литературе 1990-2010-х гг. предсказуемо - в силу высокого статуса и относительно широкой известности этих древних текстов в современной исландской культуре. В силу особенностей развития исландского языка шедевры древнеисландской прозы в целом понятны его носителям в оригинале (при наличии лексического комментария), они включены в программы образовательных учреждений по литературе. Персонажи наиболее известных родовых саг, крылатые цитаты из них, известные сюжетные линии стали в современной Исландии национальными топосами, то есть осознаются как нечто знакомое каждому обладателю исландской национальной идентичности, ее неотъемлемые составляющие [см.: Jon Karl Helgason 1998].
При этом создание художественных произведений на материале саг не носит в Исландии массового характера: как показывают наблюдения за литературным процессом этой страны, количество написанных в обозначенный период крупных прозаических произведений, где в центре внимания находится взаимодействие с сюжетами и текстами родовых саг, ограничивается несколькими десятками. Это в первую очередь исторические романы, в основу которых легли известные саги (как правило, они пишутся специалистами по древнеисландской словесности и культуре) [Маркелова 2019а], меньшинство составляют романы, в которых саговый сюжет и персонажи перенесены в современность [Маркелова 2019b], разного рода экспериментальные тексты. Исландские авторы редко избирают стратегию, широко распространенную за пределами этой страны: создать оригинальный авторский сюжет по «рецептам» саговой литературы, отправной точкой для них всегда являются уже существующие древние тексты. Основной событийный ряд саг, легших в основу современных исландских романов, остается неизменным, а характеры героев и мотивировки их поступков могут обнаруживать разную степень связи с сагой-первоисточником. Современный исландский литературовед и писатель Ауртни Бергманн дал следующее объяснение желанию своих соотечественников создавать исторические романы на материале саг: «...эти древние памятники литерату-

ры, саги наши, занимают настолько видное место в сознании исландского писателя, настолько важны для его работы с языком, что вполне естественно он рано или поздно захочет проверить себя и свое искусство рассказа именно на этом материале» [Бергманн].
В период 1990-х - начала 2000-х гг. сюжеты, персонажи и крылатые цитаты из древнеисландской словесности могли подвергаться в творчестве современных исландских авторов ироническому осмыслению - как и всё, что в исландской культуре обладало высоким статусом [см.: Маркелова 2008, 93-95]. Так, в этот период в текстах рок-поэта Мегаса известные герои саг появляются в сниженном или курьезном контексте. В пьесе Хатльгрима Хельгасона «Ночь поэтов» (2000) Эгиль Скаллагримссон изображается маньяком, который может сочинять стихи только если кого-то убьет. «Сага о Фьёльмоуде, Превзошедшем отца» Кристинна Р. Оулавссо-на (1996) (изначально задуманная как роман для подростков) пародирует распространенные в сагах сюжетные ходы и характерный для них стиль повествования. Пьеса Иоуна Стефауна Кристьянссона и Эльвара Лойи Ханнессона «Гисли Сурссон» (2005) пересказывает основные события соответствующей саги в манере, которую с равным успехом можно назвать как адаптацией для младшего возраста, так и тонкой пародией, адресованной знатокам древнеисландской прозы. Эпизодические упоминания саговых героев, сюжетов, узнаваемых цитат и подобного в иронических, пародийных или уничижительных контекстах многочисленны в литературе указанного периода.
Доминирующим течением в исландской литературе 1990-х - начала 2000-х гг. был постмодернизм. Общеизвестно отношение к «литературной классике», характерное для этого течения. Согласно Аустрауду Эйстейнс-сону одному из крупнейших исландских специалистов по сравнительному литературоведению, «постмодернизм не боится признавать власть традиций над нами и искать материал для произведений в минувших эпохах, при этом его ироническое отношение таит в себе переработку истории. За иронией всегда стоит знание истории и культурная память. Тому, кто иронизирует, следует отлично знать традицию, чтоб быть в состоянии ее пародировать. Таким образом, он также может увидеть сам себя с исторической “дистанции” и начать диалог между своим положением в современности и местом действия в прошлом. Таким образом, в постмодернизме некоторые увидели проявление новой философии истории, в которой литературное творчество используется наряду с историческими исследованиями для того, чтобы плодотворным образом воссоздать важные аспекты прошлого и показать, какова их роль для настоящего...» [Astradur Eysteinsson 1999, 388].
В романе Рунара Хельги Вигниссона (род. 1959) «Ангедония» (“Nautnastuldur”, 1990), который станет объектом исследования в данной статье, иронический характер отсылок к сагам не вызывает сомнений.
Действие «Ангедонии» разворачивается в современности. Центральная фигура в романе - юноша по имени Эгиль Гримссон. Хотя он является 374

полным тезкой знаменитого викинга и скальда, любые сопоставления со знаковой фигурой древнеисландской словесности оборачиваются для героя «Ангедонии» не в его пользу: он социофоб, не способный найти свое место в жизни (закончить учебу на гуманитарном факультете, завести семью и т.д.). Герой пытается общаться со своей родней (отцом - моряком «старой закалки», религиозной матерью и «успешным» братом) и с девушками. С одной из них - Альдис - он полтора года живет в Копенгагене, пытаясь побороть свои комплексы и обустроить семейную жизнь, но порывает с ней, узнав, что она ждет ребенка от другого. Существенную часть текста занимает описание чувств персонажа (страх, смущение, экзистенциальная усталость) и физических ощущений (преимущественно неприятных, например, тошноты и жара), а также его маниакальная борьба с мокрицами в квартире, которые в романе обладают собственным голосом.
Роман обратил на себя внимание исландских литературных критиков; при этом количество посвященных ему литературоведческих исследований невелико. Наиболее интересным для исследователей оказывается образ главного героя - слабого и фрустрированного современного мужчины, неспособного найти свое место в жизни. Дагни Кристьянсдоттир видит в этом герое параллель к рассказчику из романа Кнута Гамсуна «Голод», который готов предпочесть полуголодное существование физической работе [Dagny Kristjansdottir 2011, 236]. Хельга Биргисдоттир Кобер в статье «Сдавшийся и дезориентированный антигерой» (2007) характеризует Эгиля Гримссона как «постмодернистского антигероя» [Helga Birgisdottir Kaaber 2007, 23] и рассматривает «Ангедонию» как «роман становления» в связи с гендерными исследованиями, посвященными «кризису мужской идентичности», популярными на рубеже XX XXI вв.
Имя персонажа, совпадающее с именем знаменитейшего древнеисландского скальда и сагового героя, заставляет предполагать в «Ангедонии» наличие «сагового» текста, тем более что сам Эгиль подчеркивает, что его «назвали в честь литературного персонажа» [Runar Helgi Vignisson 1990, 124]. Эта особенность романа не прошла мимо внимания исследователей: по выражению одной из них, «Эгиль - истинный антигерой по отношению к своему тезке, сыну Скаллагрима» [Kolbrun Kolbeinsdottir 1991, 12]. Саговый текст в «Ангедонии» не является сюжетообразующим фактором, а проявляется в виде отдельных аллюзий, скрытых и явных цитат.
В заглавии первых двух частей романа видны отсылки к стихам Эгиля Скаллагримссона. Первая часть озаглавлена “Alls konar torrek” - «Всякого рода утрата» - явная отсылка к поэме Эгиля “Sonartorrek”. Заглавие этой поэмы обычно переводится на русский язык как «Утрата сыновей». Это единственный случай фиксации слова “torrek” в древнеисландском языке [см. Смирницкая 2005, 13], так что связь такого словоупотребления в романе с данной поэмой не вызывает сомнения.
Название второй части романа, “Hinsegin hofudlausn” («Нетрадиционный выкуп головы») отсылает к названию второй знаменитой поэмы Эгиля («Выкуп головы»).

Событий, напоминающих содержание этих поэм или обстоятельства их сочинения, описанные в «Саге об Эгиле», в упомянутых частях романа не происходит. В одном эпизоде первой части как будто можно усмотреть аллюзию на историю сочинения «Утраты сыновей»: после одной из жизненных неудач герой рассуждает: «Что еще ему оставалось кроме как отдать богу душу, коль скоро он до смерти боялся всего, что влекла за собой жизнь? Забросить учебу и помереть? Заморить себя голодом» [Runar Helgi Vignisson 1990, 42]. Согласно знаменитому эпизоду «Саги об Эгиле», обречь себя на голодную смерть решил отчаявшийся скальд, когда узнал о гибели младшего сына, но дочь убедила его не ждать смерти, а вместо того сложить о погибшем песнь [Сага об Эгиле 1999, 191-194]. Однако депрессивные настроения героя Рунара Хельги Вигниссона не получают разрешения в творчестве, и отсылка к саге в данном случае все же весьма призрачна.
В портрете отца Эгиля можно уловить сходство с одним из героев саги: «Эгиль проводил отца взглядом до ванной. Старик был каким-то более мелким, чем ему помнилось, худым, тощим, и на голове сквозь волосы уже начала просвечивать кожа. Наверно, это означало, что скоро старику придется прибавить к своему имени прозвище» [Runar Helgi Vignisson 1990, 53]. Имеется в виду прозвище Грим Лысый, данное отцу скальда Эгиля.
Во второй части связи с упомянутой поэмой не прослеживаются вовсе; ее событийный ряд сводится к тому, что соседом героя становится датчанин нетрадиционной ориентации, Йенс Кристиансен, который знакомит его с девушкой по имени Альдис, и она перевозит героя в Данию.
Название третьей части романа - “I einskonar viking” - «В своего рода викингском походе» - обнаруживает еще более условную степень связи с универсумом саг. Сама эта часть романа посвящена попыткам героя освоиться в чужой стране.
У романа также есть «Послесловие исландского издателя» (которое Кольбрун Кольбейнсоттир называет «главой-разоблачением» [Kolbrun Kolbeinsdottir 1991, 12]. В этом послесловии повествование от третьего лица с точки зрения главного персонажа с вкраплением точек зрения других героев, сменяется повествованием от первого лица, а границы действительности и вымысла оказываются сдвинуты: «Меня больше не зовут Эгиль Гримссон. Это имя было выдумано, чтобы завуалировать действительность, - или, может, лучше сказать, чтоб дать простор воображению? <...> На самом деле меня назвали в честь дедушки, который послужил прототипом известного героя в известном произведении известного писателя. Это имя я ни на что не променяю...» [Runar Helgi Vignisson 1990, 220]. Далее сообщается, что некоторые описанные ранее обстоятельства жизни героя - вымысел: его братья носили другие имена, погибшей сестры (о которой они говорили с отцом) никогда не существовало, а Альдис вовсе не была беременна. Герой переехал в штат Айова, закончил вуз, успешно прошел курс психотерапии, женился и обосновался в городке с названием Normal (!). Очевидно, такое послесловие - своего рода ответ
автора на вопрос, что ждало бы героя, если б он был «нормальным» членом общества; однако такой happy end, даже описанный от первого лица, воспринимается неправдоподобно.
Интертекстуальный план романа, имеющий отношение к древнеисландской словесности, не ограничивается одной лишь «Сагой об Эгиле» -однако отсылки к другому знаменитому образцу саговой литературы появляются там в контекстах, еще более удивительных: крылатые цитаты из «Саги о Ньяле» вкладываются в уста нечеловеческих существ. Эгилю в его подвальном жилище досаждают мокрицы, и ему кажется, что он слышит их разговоры, когда решает уничтожить их с помощью химических средств: «По нраву мне сей утес, и никуда я не уеду. Будь что будет. Великий день судьбы. (Skapadasgrid mikla). - Да ты, старикан, никак с ума рехнулся? Возомнил себя эдаким Ньялем из Бергторсхволля? Ты так и собираешься, сложа ручки, ждать погибели? <...> Ну что за поведение! Брань и поношения средь бела дня! Или ты, старый пень, считаешь, что я тогда не стану твоей Бергторой? Я не оставлю тебя в этом рассаднике отравы!» [Runar Helgi Vignisson 1990, 110].
В речи этих персонажей знаменитая фраза Гуннара из Хлидаренди («Красив этот склон! Таким красивым я его еще никогда не видел: желтые поля и скошенные луга. Я вернусь домой и никуда не поеду» [Сага о Ньяле 1999, 173]) соседствует с аллюзией на гибель Ньяля и его супруги Бергто-ры в подожженном доме.
Еще одна отсылка к «Саге о Ньяле» возникает в разговоре героя с Йенсом в Копенгагене: нетвердо владеющий исландским языком Йенс называет Эгиля “tadskegglingur” [Runar Helgi Vignisson 1990, 198] (это прозвище в саге употреблялось по отношению к сыновьям Ньяля, у которого не росла борода) и замечает: «Наверно, твой папа прочитать не тот сага. Наверно, тебя надо было назвать Ньяль» [Runar Helgi Vignisson 1990, 198].
Кроме отсылок к древнеисландской прозе в речи этих персонажей присутствуют и отсылки к исландскому фольклору Нового времени, не в последнюю очередь - к быличкам о призраках; мокрицы даже носят имена, типичные для призраков в фольклорных текстах: Mori и Skotta. Как замечают исследователи, «их описание чрезвычайно схоже с описанием призраков, преследующих чей-либо род. Когда речь заходит о мокрицах, как правило, используется архаизированный стиль и старинные слова, как бы для того, чтоб подчеркнуть их связь с призраками <...>. Но Моури в романе упоминается и в другой связи, а именно, в воспоминаниях Эгиля о детстве. И тогда Моури - либо его отец (ср. стр. 20-21 романа), пьяный и злой, которого боятся дети, либо он - сам Эгиль (ср. стр. 33, 40-41 романа)» [Kolbrun Kolbeinsdottir 1991, 28].
Реминисценции древнеисландской словесности в романе таковы, что вопрос о том, какого рода культурная память стоит за ними, требует уточнений. Важно, что отсылки к «Саге об Эгиле» и «Саге о Ньяле» в романе не носят нюансированного характера и сводятся к общеизвестным цитатам и образам из этих саг - зачастую не обнаруживая прочной связи с
самими древними текстами [Kolbrun Kolbeinsdottir 1991, 32]. Очевидно, предметом рецепции в таком случае оказываются не сами древнеисландские саги как таковые и даже не предыдущая интерпретация древних текстов, но лишь общие представления о них. Здесь уместно процитировать одного из крупных исследователей рецепции древнеисландской словесности и культуры в современном мире: «Это звучит парадоксально, - но для того, чтобы то или иное литературное произведение начало считаться “классикой”, оно должно находиться в процессе постоянного пересоздава-ния, постоянно приспосабливаться к новым временам, читателям и носителям информации. Лишь немногие из таких произведений знакомы нам в их первозданном виде, чаще всего они приходят к нам переписанные бесчисленное количество раз. Многие из них даже прежде всего знакомы нам в виде простых и узнаваемых знаков: “Илиада” - деревянный конь, “Дон Кихот” - старик, бьющийся с ветряными мельницами, “Гамлет” - юноша, который держит в руке череп и говорит: “Быть или не быть...”» [Jon Karl Helgason 2001, 10].
Отсылки к известным древнеисландским сагам в «Ангедонии» поверхностны и фрагментарны, однако слишком заметны в тексте романа, чтоб пренебречь ими. Даже в таком отрывочном виде, в каком они представлены в романе, их присутствие значимо, так как задает необходимое читательское восприятие и создает напряжение между саговыми персонажами (отношение к которым в исландской культуре на протяжении веков было строго положительным) и неудачником Эгилем Гримссоном и его окружением [Kolbrun Kolbeinsdottir 1991, 12]. В главах, посвященных жизни героя в Копенгагене, эти отсылки, кроме того, выступают в функции маркеров, призванных подчеркнуть его исландскую идентичность: в чуждой для себя культурной среде герой постоянно припоминает тексты, обладающие в исландской культуре высоким статусом.
Тексты, подобные «Ангедонии», показывают, что современная литература может жить одними лишь воспоминаниями о неких знаковых текстах. (Существует по крайней мере один пример такого подхода в современной исландской поэзии: стихи Тоурарина Эльдъяртна 1970-2000-х гг, в которых общеизвестные сведения о героях древнеисландской словесности, не возводимые к конкретному источнику, становятся объектом иронического осмысления и часто полностью «отрываются» от своего изначального контекста, перемещаются в современность и образуют новые смысловые связи [Маркелова 2019с]).
Само по себе помещение в неожиданные контексты образов и цитат из известных родовых саг (а «Сага об Эгиле» и «Сага о Ньяле» - без сомнения, самые известные подобные тексты) можно классифицировать как проявление иронического/критического отношения к национальным топосам, господствовавшего в исландской литературе в последние десятилетия XX в. [Gudmundur Halfdanarson, Gunnar Karlsson 2003, 246]. Рецепция саг в исландской прозе в последующие десятилетия уже лишена иронического начала и попытки сопоставления с современностью. Как уже говорилось, большинство подобных произведений 2000-2010-х гг. - исторические романы по мотивам саг. Среди них выделяется «Выкуп головы» Оулава Гюн-нарссона (2005), [см.: Маркелова 2018], действие которого происходит в начале XX в., но в этом романе связь судьбы главного персонажа с судьбой Эгиля Скаллагримссона носит более устойчивый характер и полностью лишена иронического начала.
Список литературы Особенности сагового интертекста в романе "Ангедония" Рунара Хельги Вигниссона
- Бергманн А. Читайте роман Ауртни Бергманна «Торвальд странник» и его послание современным читателям // Официальный сайт НП «Общество дружбы Россия - Исландия». URL: http://odri.msk.ru/?p=1994 (дата обращения: 01.06.2021).
- Маркелова О.А. «Ироническое национальное самосознание» в современной исландской литературе и творчество Хатльгрима Хельгасона // XVI конференция по изучению скандинавских стран и Финляндии. Материалы конференции (г. Архангельск, Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 9-12 сентября 2008 года). Часть 2. Москва - Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. С. 93-95.
- Маркелова О.А. Сага об Эгиле как сюжетообразующий текст в романе Оулава Гюннарссона «Выкуп головы» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. №2. С. 246-251.
- (а) Маркелова О.А. Рецепция саг об исландцах в современном исландском историческом романе // Ученые записки Петрозаводского Государственного Университета. 2019. №3 (180). С. 28-34.
- (b) Маркелова О.А. Рецепция «саг об исландцах» в современном исландском детективе // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2019. №1. С. 156-166.
- (с) Маркелова О.А. Чипсы для белки Рататоск и походный набор для первопоселенца Ингольва. Рецепция древнеисландской культуры в поэзии Тоурарина Эльдъяртна // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология. 2019. №60. С. 45-56.
- Сага о Ньяле / пер. С.Д. Кацнельсона, В.П. Беркова, М.И. Стеблин-Камен-ского // Исландские саги: в 2 т. Т. 2 / под общей ред. О.А. Смирницкой. СПб.: Нева; Летний сад, 1999. С. 47-370.
- Сага об Эгиле / пер. С.С. Масловой-Лашанской, В.В. Кошкина) // Исландские саги: в 2 т. Т. 1 / под общей ред. О.А. Смирницкой. СПб.: Нева; Летний сад, 1999. С. 21-216.
- Смирницкая О.А. Древнегерманская поэзия. Каноны и толкования. М: Языки славянских культур, 2005. 175 с.
- AstraôurEysteinsson. Umbrot. Bôkmenntir og nùtimi. Reykjavik: Haskôlaùtgafan, 1999. 485 bls.
- Dagny Kristjânsdôttir. Oldin ofgafulla. Bôkmenntasaga tuttugustu aldarinnar. Reykjavik: Bjartur, 2011. 311 bls.
- Guômundur Halfdanarson, Gunnar Karlsson. &jôôerni og sjalfsmynd. Sagnfrœôiprôfessorarnir Guômundur Halfdanarson og Gunnar Karlsson i samtali viô Olaf Rastrick i tilefni af greinasafninu "&jôôerni i ^ùsund ar? // &jôôerni i 1000 ar? / Ed. by Jôn Yngvi Jôhnsson, Kolbeinn Ottrsson Proppé, Sverrir Jakobsson. Reykjavik: Haskolaütgafan, 2003. Bls. 237-253.
- Helga Birgisdottir Kaaber. Uppgefna og attavillta andhetjan. Um karla og karlmennskur i skaldsögunni "Nautnastuldur" eftir Rünar Helga Vignisson // Mimir. Blaö félags stüdenta i islenskum frœôum. 2007. Vol. 51. Bls. 23-33.
- Jon Karl Helgason. Hetjan og höfundurinn. Brot ür islenskri menningarsögu. Reykjavik: Heimskringla, 1998. 269 bls.
- Jon Karl Helgason. Höfundur Njalu. frreöir ür vestrœnni bokmenntasögu. Reykjavik: Heimskringla; Haskolaforlag Mals og menningu, 2001. 200 bls.
- Kolbrün Kolbeinsdottir. &egar engu ma sleppa: athugun a formi i ^remur nütimaverkum: i sama klefa eftir Jakobinu Siguröardottur, Hversdagshöllinni eftir Pétur Gunnarsson og Nautnastuldi eftir Rünar Helga Vignisson. Lokaritgerö Haskola islands. Reykjavik, 1991. 35 bls.
- Rünar Helgi Vignisson. Nautnastuldur. Reykjavik: Forlagiö, 1990. 228 bls.