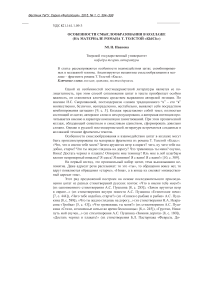Особенности смыслообразования в коллаже (на материале романа Т. Толстой «Кысь»)
Автор: Иванова Марина Николаевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности взаимодействия цитат, скомбинированных в коллажной технике. Анализируются механизмы смыслообразования в коллаже – фрагменте романа Т. Толстой «Кысь».
Коллаж, цитата, постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/146121632
IDR: 146121632 | УДК: 821.161.1.09-3
Текст научной статьи Особенности смыслообразования в коллаже (на материале романа Т. Толстой «Кысь»)
Одной из особенностей постмодернистской литературы является ее по-лицитатность, при этом способ соположения цитат в тексте приобретает особую важность, он становится ключевым средством выражения авторской позиции. По мнению И.С. Скоропановой, постмодернизм «лишен традиционного “я” – его “я” множественно, безлично, неопределенно, нестабильно, выявляет себя посредством комбинирования цитации» [9, с. 5]. Коллаж представляет собой текст, полностью состоящий из цитат, авторское слово в нем редуцировано, а авторская интенция прочитывается именно в характере компиляции заимствований. При этом прозаический коллаж, обладающий сюжетным и смысловым единством, сформировать довольно сложно. Однако в русской постмодернистской литературе встречаются созданные в коллажной технике фрагменты текстов.
Особенности смыслообразования и взаимодействия цитат в коллаже могут быть проиллюстрированы на материале фрагмента из романа Т. Толстой «Кысь»: «Что, что в имени тебе моем? Зачем кружится ветр в овраге? чего, ну чего тебе надобно, старче? Что ты жадно глядишь на дорогу? Что тревожишь ты меня? скучно, Нина! Достать чернил и плакать! Отворите мне темницу! Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид? Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами!» [10, с. 309].
На первый взгляд, это произвольный набор цитат, тема высказывания непонятна. Даже адресат речи расплывчат: то это «ты», то обращения вовсе нет, то вдруг появляются обращения «старче», «Нина», а в конце их сменяет множественный адресат «вы».
Этот ряд предложений построен на основе последовательного присоединения цитат из разных стихотворений русских поэтов: «Что в имени тебе моем?» (из одноименного стихотворения А.С. Пушкина [8, с. 285]), «Зачем крутится ветр в овраге...» (из стихотворения внутри повести А.С. Пушкина «Египетские ночи» [7, с. 444]), «Чего тебе надобно, старче?» (из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина [8, с. 589]), «Что ты жадно глядишь на дорогу...» (из стихотворения Н.А. Некрасова «Тройка» [5, с. 43]), «Что тревожишь ты меня?» (из стихотворения А.С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» [8, с. 245]), «Грустно, Нина: путь мой скучен...» (из стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» [8, с. 180]), «Достать чернил и плакать!» (из стихотворения Б.Л. Пастернака «Февраль. До- стать чернил и плакать!» [6, с. 3]), «Отворите мне темницу...» (из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Желанье» [4, с. 144]), «...Иль мне в лоб шлагбаум влепит / Непроворный инвалид» (из стихотворения А.С. Пушкина «Дорожные жалобы» [8, с. 216]), «Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами!» (из стихотворения А.А. Блока «На серые камни ложилась дремота...» [1, с. 203]).
Конечно, обратившись к источникам цитат, несложно выяснить, что, например, «ты» в цитате «Что ты жадно глядишь на дорогу...» из стихотворения Н.А. Некрасова «Тройка» обращено к глядящей вслед пронесшейся тройке девушке, а в цитате «Что тревожишь ты меня?» из стихотворения А.С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» – к «жизни мышьей беготне» [8, с. 245]. Но это вряд ли выявит смыслообразующий потенциал этих цитат в коллаже. Так что метод работы с одиночной цитатой (переход по цитатной отсылке, выяснение смысла цитаты в тексте-источнике и проекция этого смысла на цитирующий текст) не может быть ключевым в случае приведенного выше коллажа. Пройдя по всем цитатным отсылкам этого фрагмента, можно лишь сделать вывод, что смешение цитат из разноплановых текстов-источников скорее порождает комический эффект, поскольку в одном контексте оказываются, например, философские («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы») и иронично-шутливые («Дорожные жалобы») стихотворения А.С. Пушкина.
Для того чтобы раскрыть смыслы коллажа, необходимо обратить внимание на то, что объединяет входящие в него цитаты в единое высказывание.
Во-первых, повторяющиеся местоимения «я» / «меня» / «мне», «моем» позволяют говорить о некоем едином субъекте сознания.
Во-вторых, очевидно доминирование в этом фрагменте пушкинского слова, цитаты из творчества А.С. Пушкина становятся организующим началом коллажа, в него вплетаются другие, как бы побочные, «чужие» слова.
В-третьих, интерес представляет синтаксис коллажа: рассматриваемый фрагмент открывают многочисленные риторические вопросы, которые затем перерастают в ряд риторических восклицаний. Риторические вопросы, как будто не связанные между собой по смыслу в контексте текстов-источников, все же объединены синтаксически: все они начинаются с вопросительных слов («что», «чего», «зачем»); важно отметить авторское вмешательство в некоторые цитаты в виде удвоения вопросительных местоимений по сравнению с текстом-источником («Что, что в имени тебе моем?»), а также присоединение к вопросительному слову усилительной частицы «ну» («Чего, ну чего тебе надобно, старче?»). Такая форма риторических вопросов переносит смысловой акцент с их сути на сам акт вопрошания, служит скорее средством выражения состояния недоумения, растерянности, мучительной неопределенности. В середине коллажа появляются три цитаты, представляющие собой восклицательные предложения, тоже никак не связанные между собой при рассмотрении их в контексте текстов-источников, но зато обладающие некоторой общностью семантики в узком контексте коллажа: «Скучно, Нина! Достать чернил и плакать! Отворите мне темницу!». Такой ряд восклицаний говорит о том, что субъект сознания ищет выхода из тяготящего его, ассоциируемого со скукой, слезами и тюрьмой положения. Но восклицания сменяются очередным риторическим вопросом: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид?» Этой строкой из «Дорожных жалоб» Пушкина, видимо, обозначены сомнения и страхи субъекта сознания перед принятием решения. Заключает коллаж цепочка из четырех восклицательных предложений, одинаковых по строению и передающих некое окончательное убеждение, решимость: «Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами!».
Голоса молодых исследователей
Таким образом, в данном коллаже многочисленные цитаты на фоне отсутствия авторского слова взаимодействуют особым образом. Во-первых, неопределенным становится «речевой центр» (в терминологии Л.А. Гоготишвили [3]), при количественном доминировании цитат одного автора создается впечатление принадлежности «речевого центра» ему. Во-вторых, большое влияние на смыслопорож-дение в коллаже имеет общность семантики соседних цитат, порождаемая отрывом от первоначального контекста цитируемых источников. В-третьих, при отсутствии авторского слова значительно возрастает роль формальных средств в построении высказывания (например, единообразного синтаксического оформления цитат).
Поскольку рассмотренный коллаж - это не самостоятельное произведение, а часть романа Т. Толстой «Кысь», то его смыслы значительно обогатятся при соотнесении его с контекстом всего романа. При этом нужно убедиться, что общие выводы, сделанные на основе интерпретации взаимодействия цитат в коллаже, верны.
Единым субъектом сознания в этом фрагменте, на первый взгляд, оказывается главный герой романа «Кысь» Бенедикт. Он собирает и жадно читает все книги, оставшиеся после Взрыва, который уничтожил человеческую цивилизацию. Бенедикт воспринимает текст поверхностно, не видя подтекста, не имея представления о художественном иносказании. Переживший Взрыв старик - Никита Иванович - надеется на возрождение системы духовных ценностей в сложившемся после Взрыва обществе. Он попрекает Бенедикта незнанием азбуки, необходимой для прочтения и понимания книги жизни, подразумевая необходимость сначала открыть для себя азы морали, гуманности, чтобы жить в обществе и тем более воспринимать искусство. Но Бенедикт не может понять иносказательного смысла слов Никиты Ивановича, а потому перечитывает сотни книг и губит множество жизней в поисках главной Книги, где написано, как жить. В минуту отчаяния ему предстоит выбор между жизнью Никиты Ивановича и библиотекой. Рассмотренный выше коллаж -это внутренний монолог, порожденный смятенным цитатным сознанием Бенедикта.
Интересен способ монтирования коллажа в контекст романа: хотя и ясно, что это бред Бенедикта, под субъектом сознания внутри этого фрагмента может в самом деле пониматься Пушкин, но только Пушкин как важная часть сознания рефлексирующего Бенедикта: «Так, верно, и пушкин твой корячился, али кукушкин, -что в имени тебе моем? - пушкин-кукушкин, черным кудлатым идолом взметнувшийся на пригорке, навечно сплющенный заборами, по уши заросший укропом, пушкин-обрубок, безногий, шестипалый, прикусивший язык, носом уткнувшийся в грудь, - и головы не приподнять! - пушкин, рвущий с себя отравленную рубаху, веревки, цепи, кафтан, удавку, древесную тяжесть: пусти, пусти! Что, что в имени тебе моем? Зачем кружится ветр в овраге? чего, ну чего тебе надобно, старче? Что ты жадно глядишь на дорогу? Что тревожишь ты меня? скучно, Нина! Достать чернил и плакать! Отворите мне темницу! Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид? Я здесь! Я невинен! Я с вами! Я с вами!
. „Весь мокрый, с головы до раскисших лаптей, Бенедикт барабанил в двери Красного Терема» [10, с. 309].
Коллаж не только передает эмоциональное состояние Бенедикта в момент этого сложного выбора, но и раскрывает подтекстный смысл образа Пушкина в романе. Дело в том, что Пушкин, цитаты из творчества которого доминируют в коллаже, является ключевым образом-цитатой романа «Кысь». Великий поэт является для Никиты Ивановича знаком всей ушедшей в небытие культуры, на протяжении романа старик пытается приобщить к ней Бенедикта: заставляет его долбить из де- рева памятник Пушкину, говорит с ним о смысле стихотворений и о морали. Но все это бесполезно: под «народной тропой» к памятнику Пушкина Бенедикт понимает конкретную, заросшую бурьяном дорожку, «жизни мышья беготня» – это буквально привычное шуршание мышей под полом («Нет мышей. Сначала дико как-то было. Мышь шуршит – жизнь идет, а и в стихах так указано: жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» [10, с. 169]). Сам не понимая смысла книг, Бенедикт восхищается «проницательным» толкованием сказки «Репка» своим тестем: «А вот плохо ты читал! Тянет дед репку, а вытянуть не может. Позвал бабку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Еще других позвали. Без толку. Позвали мышку, – и вытянули репку. Как сие понимать? А так и понимать, что без мыши – никуда. Мышь – наша опора!
А ведь верно! Вот как Тесть объяснил, – так все сразу понятно стало, все и сошлось. Большого ума человек» [10, с. 188–189].
Но самое главное последствие духовной недальновидности, неразвитости Бенедикта – его решение сжечь заживо старика Никиту Ивановича в обмен на книги в надежде все же найти в них прямолинейное указание, как нужно жить. Коллаж – это внутренний спор Бенедикта, в результате которого он приходит к своему страшному решению. То, что коллаж начинается пушкинскими цитатами, которые затем перебиваются другими чужими словами, и заканчивается уже не словом Пушкина, означает решимость Бенедикта отказаться от Пушкина и попыток постичь общечеловеческие ценности.
Кроме того, этот фрагмент-коллаж, по мнению исследователей, может быть ключом к интерпретации образа «кыси» в романе, если под ней понимать угнетаемую вечными вопросами русскую душу. Мысли Бенедикта, оформленные как ряд риторических вопросов, обретают статус вневременного внутреннего монолога русского человека. Этот монолог составляют «вечные вопросы, на которые нет чётких ответов и на которые каждый отвечает сам, опираясь на уже существующее наследие памяти и текстов» [2, с. 176].
Таким образом, фрагмент романа Т. Толстой «Кысь» иллюстрирует особенности взаимодействия цитат в коллаже (в данном случае – подвижность «речевого центра», важность формальных средств соединения цитат, а также возникновение семантической общности рядом стоящих цитат, не связанных между собой при рассмотрении их в контексте текстов-источников) и демонстрирует возможности выражения авторской позиции даже при отсутствии авторского слова.
304 304
Список литературы Особенности смыслообразования в коллаже (на материале романа Т. Толстой «Кысь»)
- Блок А.А. На серые камни ложилась дремота...//Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2.
- Стихотворения и поэмы. 1904-1908. М.; Л.: Худож. лит., 1960. С. 203.
- Гладилина И.В., Усовик Е.Г. Индивидуальные образования как один из слотов авторского словаря//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 175-183.
- Гоготишвили Л.А. Непрямое говорение. М.: Языки славянских культур, 2006. 720 c.
- Лермонтов М.Ю. Желанье//Лермонтов М.Ю. Стихотворения и поэмы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. С. 144-145.
- Некрасов Н.А. Тройка//Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. Т. 1. Стихотворения 1838-1855. Л.: Наука, 1981. С. 43-44.
- Пастернак Б.Л. Февраль. Достать чернил и плакать!//Пастернак Б.Л. Стихотворения и поэмы. М.: Худож. лит., 1988. С. 3-4.
- Пушкин А.С. Египетские ночи//Пушкин А.С. Драматургия. Проза. М.: Правда, 1981. С. 438-451.
- Пушкин А.С. Поэзия. М.: СЛОВО, 1999. 808 с.
- Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2004. 607 с.
- Толстая Т.Н. Кысь: роман. М.: Подкова, 2001. 320 с.