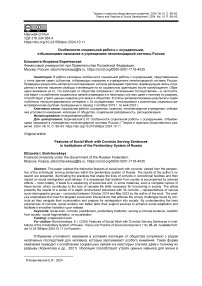Особенности социальной работы с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы России
Автор: Боричевская Е.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В работе изложены особенности социальной работы с осужденными, представленные с точки зрения самих субъектов, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы России. Приведены результаты авторского исследования, которое раскрывает практики, формирующие жизнь осужденных в местах лишения свободы и влияющие на их социальную адаптацию после освобождения. Обращено внимание на то, что изоляция от общества сопряжена с негативными последствиями - в частности, она ведет к ослаблению социальных связей индивидов и в некоторых случаях даже к полному их разрыву, способствует утрате ценных навыков для жизни в обществе. В статье репрезентированы результаты серии глубинных неструктурированных интервью с 34 осужденными, относящимися к различным социально-демографическим группам, проведенных в период с октября 2019 г. по май 2023 г.
Социальная работа, осужденные, практики, пенитенциарное учреждение, отбывание уголовного наказания, изоляция от общества, социальная разорванность, ресоциализация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146598
IDR: 149146598 | УДК: 316.334:364.4 | DOI: 10.24158/tipor.2024.10.11
Текст научной статьи Особенности социальной работы с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы России
Москва, Россия, ,
Moscow, Russia, ,
обществе. В долгосрочной перспективе это приводит к формированию дезадаптивной направленности в поведении, что является важным фактором, влияющим на вероятность совершения повторных преступлений субъектом после освобождения (Оботурова, Чирков, 2018).
В этом контексте в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г.1 подчеркивается необходимость избрания для лиц, совершивших уголовные преступления, мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей (например, домашний арест, штраф, принудительные работы и др.), для успешной адаптации в обществе после освобождения. Вышеуказанное положение контролирует общественный Совет при Федеральной службе исполнения наказаний2.
Однако, как показывает практика, значительная доля осужденных все же отбывает наказание в закрытом пенитенциарном учреждении. В связи с этим крайне важно изучить вопрос о состоянии социальной работы с заключенными, которая влияет на их успешную ресоциализацию в обществе после освобождения. Нами были проведены глубинные неструктурированные интервью в период с октября 2019 г. по май 2023 г.; участники – 34 осужденных (из них 3 женщины), отбывающих наказание в исправительных колониях Российской Федерации, что позволило не только выявить мнение осужденных о существующих практиках социальной работы, но и проникнуть в глубину их опыта и восприятия пенитенциарной системы. Анализ полученной информации дал возможность определить ключевые практики социальной работы с осужденными, которые формируют их жизнь в местах лишения свободы и влияют на социальную адаптацию после отбывания срока наказания. С одной стороны, мы наблюдаем появление новых инициатив и программ, направленных на ресоциализацию осужденных. С другой – продолжают существовать проблемы, связанные с недостатком ресурсов, отсутствием единого подхода к социальной работе и недостаточной информированностью осужденных о своих правах и возможностях.
Начнем с рассмотрения первой ключевой практики социальной работы с осужденными, которая, по мнению последних (в том числе лиц, отбывших наказание), имеет особое значение для их ресоциализации и подготовки к жизни на свободе – криминальные формы вовлечения в преступную деятельность, увеличение делинквентов и рецидивной преступности внутри исправительной колонии.
В рамках глубинного интервью выявлено, что пенитенциарная система, которая всеобще призвана способствовать исправлению лиц, преступивших закон, не исправляет их, а напротив, содействует развитию практики осуществления противоправных действий внутри исправительной колонии, что влечет за собой увеличение делинквентов и рецидивной преступности (как отметили некоторые информанты: «… Вот противоречие. Мы отбываем наказание за преступления, но сотрудники тюрьмы заставляют нас совершать новые преступления внутри колонии. Если откажешься, то не выживешь в колонии. И какое тут исправление? Как нас могут исправить, если, отбывая наказания, мы идем на новые преступные действия? …»). Осужденные к лишению свободы неоднократно отмечали, что начальники и инспекторы отделов охраны исправительных учреждений обязывают их принимать участие в различных мошеннических действиях. Например, заключенных за экономические преступления привлекают к телефонному мошенничеству – звонки от банков (о совершенной подозрительной операции, которая приводит к потере денежных средств); от сотрудников правоохранительных органов; сообщения о выигрыше в лотерею («… В тюрьме принято привлекать к мошенничеству тех заключенных, которые отбывают наказание за экономические преступления. Руководство считает их способными. Какое тут может быть исправление? То есть я вот отбываю наказание за мошенничество, и меня обязывают в тюрьме, например, звонить другим людям и говорить, что они выиграли в лотереи и им надо перейти по ссылке на сайт. На самом деле никакой лотереи не было, и они не выиграли. Если они перейдут по этой ссылке, то их деньги уйдут на другой счет. Какое тут может быть исправление? Если руководство тюрьмы привлекает меня к совершению тех же преступлений, за которые я отбываю наказание? …»). За такую работу осужденные получают различные бонусы – алкогольные напитки, свидания с родственниками, продукты питания («… Давали водку за это…»; «… Ну да, сказал мне начальник: хочешь получить УДО, давай обманывать людей…»; «… А Вы как думали, что этого нет? Все есть, Вы даже не представляете, что там»).
Рассмотрев первую ключевую практику, перейдем к анализу второго важного аспекта социальной работы с осужденными, который часто остается вне внимания специалистов, но имеет значение для психологического и социального благополучия осужденных, – это проблема социальной разорванности.
Важно отметить, что осужденные заявляли в интервью о коммуникационных ограничениях и социальной оторванности от технических и иных модернизаций. Заключенные, отбывающие наказание продолжительное время, указывали, что не знают, как пользоваться различной техникой, компьютерными программами, телефонами («… Вот я выйду скоро и как я буду пользоваться телефоном, компьютером, Интернетом? Я отбыванию наказание уже почти 23 года, я не знаю, как пользоваться навороченными телефонами, а тем более компьютерами. Я буду как дикарь. Меня даже на работу не возьмут из-за этого …»; «… Когда я попал в тюрьму, то у меня был кнопочный телефон, а сейчас есть без кнопок, но как им пользоваться? Конечно, когда я выйду на свободу, то люди сразу поймут, что со мной что-то не так, если я буду пользоваться кнопочным телефоном. Также не знаю, как пользоваться Интернетом. Чем больше лет отбываешь наказание, тем больше ничего не знаешь, что происходит на воле …»). Вследствие сказанного участники нашего исследования были обеспокоены тем, как будут адаптироваться к новым реалиям после освобождения («… Надо в тюрьме открыть хоть какие-нибудь курсы по обучению на компьютерах. Это поможет нам после освобождения найти работу …»; «… Некоторые говорят, что через Интернет можно искать работу, но я вот уже сижу 25 лет и не знаю, как им пользоваться и как искать работу. Пусть этому обучают сотрудники наши …»). В ходе глубинного интервью осужденные часто подчеркивали, что коммуникационные ограничения в виде доступа к новостям отрицательно влияют на их осведомленность о социуме («… Я вообще не знаю, что творится в мире, нам даже новости не дают читать и ничего не рассказывают. Хотя бы давали бы какую-нибудь газету …»).
Рассмотрим третью практику, которая вызывает огромные споры и дискуссии в обществе, – это денежная плата за условно-досрочное освобождение (УДО) и доносительство в пенитенциарных учреждениях. Определено, что сотрудники исправительной колонии принуждают осужденных и их родственников направлять денежные средства за положительное решение по УДО («… Мне сказали, чтобы мои родственники отправили в колонию занавески и два ноутбука, тогда отпустят по УДО …»; «… Ремонт тюрьмы делается на деньги родственников осужденных. За УДО надо заплатить, например, сделать ремонт в колонии – привезти плитку, краску, столы и прочее ...»). Распространена практика отказа в УДО – если заключенный встал на путь исправления; в течение значительного времени не нарушает режимных требований; добросовестно относится к труду и учебе, но не заплатил определенную сумму за УДО, то ему отказывают в освобождении раньше срока («… Меня посадили, хотят исправить, но я должен платить за то, чтобы меня исправили. Хочешь пройти тесты для того, чтобы получить УДО – плати…»; «… Они знали, что у моей семьи есть деньги, вот и говорили, купи это, купи это…»; «… Почему я должен платить за свое заключение, пусть государство покупает вещи для колонии…»).
Переходя от конкретных практик к более системным проблемам, мы обращаем внимание на отсутствие дифференциации в формировании условий для ресоциализации осужденных. Это вопрос, который требует глубокого анализа, поскольку от него зависит эффективность всех проводимых мер по организации наказания.
В ходе интервью осужденные отмечали, что они старались исправиться, но контингент внутри тюремного коллектива не позволял им ресоциализироваться («… Как можно исправиться, если в моем отряде все друг друга бьют и убивают? Плюс получаем еще срок …»; «… Невозможно пройти путь ресоциализации, если в отряде ты живешь с серийными убийцами и насильниками, хотя там совершил мелкую кражу …»). В тюремных отрядах осужденных не распределяют по статьям и виду преступлений – рецидивист отбывает наказание вместе с осужденным за воровство. Так или иначе заключенные подражают более авторитетным лицам в тюремной структуре и после освобождения вовлекаются в их асоциальную структуру («… Серийные убийцы пользуются большим авторитетом. Все заключенные им подражают, чтобы брать с них пример. После освобождения те заключенные, которые брали пример с убийц, также совершают преступления и становятся серийными убийцами …»). «Авторитетные» (убийцы и насильники) заключенные подчеркивали, что тюрьма – это второй дом, поэтому после отбывания наказания они совершают повторные преступления («… Если ты в тюрьме авторитет, то будешь пытаться снова туда вернуться…»; «… Это такая романтика…»; «… В этом вся моя жизнь…»; «… А что мне делать на свободе, у меня нет друзей и родных, лучше опять в тюрьму …»).
Рассмотрев системную проблему отсутствия дифференциации в формировании социальных условий для исправления осужденных, мы переходим к анализу пятой практики, которая часто становится следствием описанной выше проблемы, – демотивации осужденных к ресоциализации. Заключенные, у которых отсутствует жилье, образование, работа, семья и имеются различные зависимости (алкоголизм, наркомания), отмечали, что после освобождения они вновь вернутся в тюрьму, поскольку не знают, как жить в открытом социуме («... Возвращаешься в исправительную колонию, когда все плохо.»; «... Там накормят и есть, где спать, а тут что делать.»; «. Родственники меня не принимают, я им не нужен, а что мне делать, я и хочу вернуться в колонию…»; «. Я никому не нужен, зачем мне жить на свободе, я лучше в колонии, там люди есть.»).
Проанализировав демотивацию осужденных как важный аспект социальной работы с ними, мы переходим к рассмотрению шестой практики, которая может быть одной из причин этой демотивации, - неправомерные действия по отношению к осужденным. Важно отметить, что сотрудники колонии лишают некоторых заключенных продуктов питания, не соблюдают санитарногигиенические нормы, применяют физическую силу («. Надзиратель не дает еду, говорит -плохо себя вел.», «. Мне целый день не разрешали ходить в туалет.», «. У нас баня раз в неделю, мне запрещали ходить в баню месяц.»).
Важно затронуть еще один аспект социальной работы с осужденными - упрощение методик ресоциализации и сужения практик психологической помощи, что имеет серьезные последствия для эффективности ресоциализации и усугубляет проблемы, связанные с демотивацией осужденных. Выявлено, что социальная работа не проводится должным образом. Один раз в месяц сотрудники пенитенциарной системы проводят психологические тесты с помощью карточек, которые заключаются в выборе определенного цвета или животного , однако результаты их осужденным не озвучиваются (то есть обратная связь отсутствует) («. Я вообще не знаю, что такое социальная работа. Иногда нас вызывают и предлагают выбрать цвет и все. Может, это и есть социальная работа, я не знаю ...»; «. Какие-то психологические тесты проводят, выбрать цветочек или что-то еще и дальше отпускают. Я не знаю, что такое социальная работа, но мне кажется, что это когда разговаривают с тобой …»). Также информанты неоднократно подчеркивали, что психологическая и юридическая помощь не предоставляются заключенным во время отбывания наказания (в том числе отсутствуют представители специальной службы - социальные работники).
Стоит отметить, что профессиональные навыки осужденных не учитываются во время отбывания ими наказания. Заключенным-актерам отказывают в участии в местном спектакле, юристам - в части предоставления помощи другим осужденным, которые в ней нуждаются, так что все отбывающие наказание теряют свои профессиональные навыки во время пребывания в пенитенциарных учреждениях («. Да тут никто не учитывает то, что умеешь делать. Я вот юрист, помогал другим, оказывал юридическую помощь. Сказал руководству, что могу помогать заключенным, которые нуждаются в такой помощи. Они напрочь отказали мне и до сих пор за мной пристально наблюдают, чтобы я не помогал. Конечно, навыки теряются .»).
Негативные практики социальной работы с осужденными не ограничиваются проблемами в местах лишения свободы и проявляются в трудностях после освобождения и низком адаптационном потенциале социальной работы после освобождения, что создает дополнительные барьеры на пути восстановления в обществе. Опрашиваемые отмечали, что сотрудники исправительной колонии не подготавливают их к ресоциализации, то есть к процессу адаптации после освобождения, в связи с чем бывшие осужденные сталкиваются с многочисленными трудностями после отбывания наказания (в части трудоустройства, восстановления семейных связей, поиска жилья и пр.) («… Когда отбывал наказание, то мои родственники от меня отказались, выписали из квартиры. До тюрьмы работал грузчиком, куда мне теперь пойти работать и жить? Не знаю. Как искать работу. тоже не знаю. В тюрьме не говорили, как и где искать работу тем, кто отбывал наказание. Поэтому пока хожу как бездомный, что еще делать .»).
Бывшие осужденные не адаптированы к жизни за пределами исправительной колонии, вследствие чего случаются рецидивные преступления.
Таким образом, такие трудности говорят о том, что в ходе отбывания наказания социальная работа с заключенными не проводилась должным образом («. У меня отсутствуют навыки для дальнейшей жизни …»; «… Вот мне некому помочь, родственников нет, жилье есть, но я не знаю, как дальше жить, что делать. На работу меня не берут. Если бы во время отбывания наказания сотрудники колонии хотя бы говорили, где можно искать работу, кем работать, как справиться с тем, что тебя не будут принимать в круг общения другие люди, когда узнают, что отбывал наказание …»).
Одной из самых острых проблем в период отбывания наказания является отказ заключенным в получении основного общего образования, что не только нарушает их права, но и значительно снижает шансы на успешную ресоциализацию после освобождения. Заключенные без аттестата подчеркивали, что, несмотря на существующую статью в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации1, которой предусмотрена возможность получения основного общего образования для осужденных к лишению свободы, не достигших возраста 30 лет, реального обучения не происходит, что влияет на трудоустройство после освобождения («… У меня нет никакого образования, но в тюрьме мне отказали в получении образования, cказали, что не положено. Было бы образование, то смог бы устроиться на работу после освобождения или получить какие-то знания. Может, целенаправленно не хотят обучать, чтобы нас никуда не взяли работать. Они же (сотрудники колонии) издеваются над нами, все делают, чтобы мы и дальше совершали преступления …»).
Организация тренингов, мастер-классов, занятий в вечерних школах также не практикуется в исправительных колониях. Бывшие осужденные отмечали, что отсутствие должных профессиональных навыков отрицательно сказывается на социализации после освобождения (зачастую случаются рецидивы) («… Нас же в колонии ничему не обучают. Обучали бы хотя бы разнорабочим профессиям, чтобы мы могли хоть куда-нибудь устроиться после освобождения ...»; «… До нас никому нет дела в колонии. Вот мы выйдем и где будем работать? Обучали бы чему-нибудь …»; «… Мне было тяжело найти работу после освобождения, я до колонии работал то на стройке, то в магазине, то грузчиком, в целом, мало что умею делать. Пока отбывал наказание, то вообще все забыл. Специалисты в колонии могли бы нас чему-нибудь научить, хотя бы самым востребованным профессиям, куда берут бывших заключенных …»). Своевременное трудоустройство положительное влияет на процесс ресоциализации.
Таким образом, кризисная трансформация целевого характера (в части преобразующих практик) социальной работы с осужденными выражается в: а) переосмыслении ее целей; б) ключевом аспекте индивидуальных потребностей осужденных; в) мультидисциплинарном подходе; г) адаптации стратегий к новым формам взаимодействия; д) фокусе на устойчивом развитии и социальной справедливости; е) росте общественного участия и волонтерства; ж) психосоциальной работе; и) переосмыслении ролей и функций. Она обуславливается изменением подходов, которые влияют на содержание и практические аспекты в части создания комплексных программ помощи осужденным. В настоящее время ценностно-содержательная направленность такой работы заключается в: а) имеющих место случаях демотивации со стороны руководства пенитенциарного учреждения; б) низком адаптационном потенциале уголовно-исполнительной системы в период и после заключения; в) отсутствии дифференциации в формировании условий для ресоциализации осужденных. Успешная реализация комплексной работы с осужденными значительно снижает уровень рецидивной преступности (Тепляшин, Сергиенко, 2020).
Список литературы Особенности социальной работы с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы России
- Корнилова Т.В., Поздняков В.М., Баламут А.Н. Исследование жизнестойкости осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 15, № 1 (53). С. 107-116. DOI: 10.46741/2686-9764-2021-15-1-107-116 EDN: QFPXZX
- Оботурова Н.С., Чирков А.М. Актуальные проблемы методологии психотерапии осужденных // Прикладная юридическая психология. 2018. № 3 (44). С. 28-36. EDN: YLBYLB
- Тепляшин П.В., Сергиенко А.С. Роль феномена выученной беспомощности в ресоциализации осужденных, изолированных от общества // Научный компонент. 2020. № 1 (5). С. 68-73. DOI: 10.51980/2686-939X_2020_1_68 EDN: VGYCCU