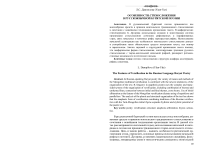Особенности стихосложения в русскоязычной бурятской поэзии
Автор: Дампилова Людмила Санжибоевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (41), 2017 года.
Бесплатный доступ
В русскоязычной бурятской поэзии применяется все многообразие средств и приемов монгольского традиционного стихосложения в сочетании с новейшими тенденциями организации текста. В анафорических стихотворениях Б. Дугарова использована сложная и многогранная система организации стихосложения: сочетание рифмованных и нерифмованных строк, связь начальных и конечных рифм, перекрестная рифма. Использование начальной аллитерации как особенности монгольского стихосложения диктует и употребление таких обязательных средств построения текста, как повтор и параллелизм. Анализ звуковой и структурной организации текста показал, что анафорическая форма стихосложения, синтезирующая традиции русского стихосложения с тюрко-монгольской начальной рифмой, расширяет ритмико-стилевые возможности поэтического письма.
Поэзия, стихосложение, структура, анафора, аллитерация, рифма, семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14914621
IDR: 14914621
Текст научной статьи Особенности стихосложения в русскоязычной бурятской поэзии
В русскоязычной бурятской поэзии используется все многообразие динамики средств и приемов монгольского традиционного стихосложения в сочетании с новейшими тенденциями организации текста. В данной статье рассматривается системный подход использования начальной аллитерации в поэзии как принципа традиционного тюрко-монгольского стихосложения. Цель и задачи работы - выявить особенности ритмической организации стиха, определить основные приемы использования начальной рифмы в поэзии Б. Дугарова, установить национальную специфику, фольклорные, литературные связи и типологические схождения с монгольской стихотворной культурой, раскрыть тесную взаимосвязь семантики текста и формы стихосложения.
Анафора, или начальная аллитерация, будучи существенным признаком монгольского стихосложения, находится в основе фонической организации поэтического текста Баира Дугарова. Поэт, использующий этот «самобытный принцип звуковой организации стиха», считает анафору «этнокультурным духовным кредо кочевников Центральной Азии»1. Можно считать закономерным итогом его творческих поисков в стихосложении книгу «Азийский аллюр», в которой сконцентрированы значимые культурные коды как монгольского этноса, так и всей Центральной Азии. Название «Азийский аллюр» - поэтическая метафора, подчеркивающая своеобразие начальной рифмы тюрко-монгольского стиха. Поэт утверждает собственные индивидуально-авторские концепции, составляющие квинтэссенцию обозначенных на протяжении всего его творчества тем и мотивов под знаком анафоры.
Особенность аллитерационного принципа, основанного на законах гармонии гласных и сингармонизма, заключается в том, что он несет функцию ритмической организации текста. В терминологическом аспекте в монгольском стиховедении под аллитерацией подразумевается единона-чатие (монг. толгой холболт), повторяться могут и гласные, и согласные в начале строки. Как известно, в русском стихосложении «повтор в словах текста тех или иных гласных называют ассонансом, а согласных - аллитерацией»2. Под аллитерацией имеем в виду начальную рифму, также пользуемся классическим определением «анафора (греч. avaxpopa ‘вынесение вверх; повторение’), или единоначалие, - стилистический прием, заключающийся в повторении сродных звуков, слов, синтаксических или ритмических построений в начале смежных стихов или строф»3.
В поэтической практике Б. Дугарова обращение на основе развитого силлабо-тонического стиха к национальной генетической форме стихосложения на русском языке имеет свою предысторию. В его творчестве особое место занимают переводы бурятских песен и других малых жанров со своими ритмическими и архитектоническими особенностями. Несомненной творческой удачей поэта являются переведенные им лучшие образцы народной поэзии в сборнике «Алтаргана», в котором приводятся параллельно бурятские тексты и их поэтические переводы на русском языке. Как верно отметил Ю. Орлицкий: «Взгляд на двуязычное издание “Алтарганы” позволяет увидеть источник еще одного замечательного нововведения Баира Дугарова в русскую поэзию - анафорического стиха, традиционного для бурятской поэзии, но в русской появлявшегося лишь как редчайшее исключение»4. Стихи в этой книге отличает инструментовка единоначатия с применением традиционного песенного параллелизма, создающего близость к бурятскому оригиналу. При этом сохраняется конечная рифма - для восприятия на русский слух:
Номхон, номхон бороороо
Номони хутэл дабаа хадам ямар бэ?
Номхон сайхан сээжээрээ Ном судар сураа хадам ям ар бэ?
Каково на лошади, на робкой Подниматься в гору напрямик? Каково тому, кто нравом кроткий, Постигать завет священных книг? 5
Устные народные триады, бурятские пословицы и поговорки Б. Дуга-ров переводит также с начальной и конечной рифмой: «Гордость богача -высокомерна. / Гордость силача - глупа безмерно. / Гордость у мужей ученых - совершенна»6, «Коль широк ты душою, то верится, / Конь с седлом в твоем сердце поместится». В этих примерах порядок слов, фразы выстроены по закону гармонии, фоническая организация текста соответствует «звукосимволической функции анаграммирования» (Баевский). Ритмическая организация текста создает тот темп, от которого зависит эстетическое и эмоциональное восприятие произведения.
Б. Дугаров, обратившись к анафоре в авторском творчестве, параллельно переводил поэзию монгольских народов, используя начальную рифму. Знание особенностей жанров и опыт работы по переводу фольклорных текстов, несомненно, сыграли свою роль при поиске соответствующей формы для медитативного восточного мышления в переводе, ибо фольклорное стихосложение стояло у истоков национальной поэзии. Он перевел поэму Б. Барадина анафорой, предельно приближая к бурятскому сказовому напеву:
По душе тебе битвы, и, мастерски саблей владея, Покоришь ты простор, что нужнее тебе.
Потому ты оставишь страну, где царит хвойный запах, И помчишься закатному солнцу вослед7.
Книгу В. Намсараева «Круг вечности» Дугаров переводит непосредственно с оригинала, минуя подстрочник. В этом сборнике ряд стихотворений демонстрирует начальную рифму в сочетании с конечной, например: «Голос древних легенд и сказаний / Гордо внукам звучал в назиданье: / “Путь нелегок в кочевке пустынной, / Будь всегда в испытаньях мужчиной”»8. Переводы Б. Дугарова характеризуются притяжением фольклорной и этнической традиций, выраженных в народных афористических изречениях, которые служат центром духовной ценности многих поколений. В его переводческой деятельности без привлечения подстрочника проявляется интуитивная чувствительность к той и другой языковой среде. Несомненно, переводы Б. Дугарова - важное звено в его новаторском обращении к анафоре в собственном поэтическом творчестве.
В «Азийском аллюре» обозначены значимые культурные коды монгольского мира, составляющие несколько циклов и ядро его семантико-эстетических поисков. В книге продуманы и логически связаны внетекстовая структура, жанр стихотворения и форма стихосложения. В стиховедческом плане каждый цикл в сборнике отличается особенностью стихосложения. Такие циклы, как «Протяжные гимны», написанные им в 1970-х гг, приобретая новые формы и мотивы в данном сборнике, открывают многообразную картину мира, увиденную во времени и пространстве странником, путником-созерцателем. Цикл как единый целостный текст представляет сложное сплетение античных, тюркских, монгольских мифов, буддийских и библейских сказаний, современных философских дефиниций. В «Протяжных гимнах» бурятский традиционный стих, построенный на аллитерации, сочетается с ритмом античного гекзаметра. Гимны-восьмистишия связаны фоническим, стилистическим и тематическим единством. «Протяжные гимны» - это также метафора, как и «Азийский аллюр», гармонично соединяющая содержание с формой поэтического высказывания и при этом сохраняющая глубокий внутренний подтекст.
Стихотворная строка в гимнах исходит от длины строки гекзаметра, но, не делясь на восходящие и нисходящие античные стиховые единицы, на едином ритмическом уровне вписывается в ритмико-метрические размеры монгольского протяжного стихосложения. Соединяет в единый ритм и сцепляет строфы между собой начальная рифма. Новацией стала такая удлиненность и равносложность стиха, когда строка равна предложению и имеет завершенный единый семантический, ритмический и интонационный характер:
Любо с высокой скалы мне пропеть сокровенные нежные гимны. Лютня из рук выпадает, и в бездну летит, чтоб об камни разбиться. Лебедь серебряным взмахом крыла ее для меня возвращает.
Лета стремит свои воды, и в каждой волне - лебединая песня9.
Художественный образ в каждой строке этой строфы несет особую семантическую нагрузку, и значение образа определяется конкретным контекстом. Так, например, реминисценции из его собственного творчества раскрывают подтекст национального кода. Лирический герой поет гимн праматери-лебеди. Это самый распространенный сюжет в обрядовой поэзии бурят. Лютня, заменившая национальный инструмент хур в данном контексте, имеет основное кодовое значение. Лютня, летящая в бездну, коннотативно связана с легендой о хуре улигершина Альфора Васильева, а далее - со строками из его поэмы «Восхождение на Мунку-Сардык», написанной в прозе и стихами: «и Альфор, последний сказитель Гэсэриады, бросит в воды изнасилованной веком Ангары свой опечаленный морин-хур...»10. В поэзии Б. Дугарова хур является олицетворением творческих сил народа, и потеря его (в данном случае лютни) означает прощание с эпическим прошлым, со своей исконной культурой. Торжественность и светлые мотивы гимна предполагают, что поэт возрождает уходящую музыку эпоса не только словом, но и национальным ритмом стиха.
Открытием его поисков в композиционном построении текста является венок восьмистиший, где содержание углубляется формой стихосло- жения. Особенность народного стихосложения как повтор, находящийся в основе бурят-монгольских поэтических текстов, использован в русской стиховой культуре. Девять восьмистиший в «Страннике» структурно плотно связаны между собой благодаря повторам последней строки каждого восьмистишия в первой строке следующего эпизода:
Страннику много ли надо в пути обретенья себя через дали.
Стоит лишь оглянуться, и вижу былинку мою, встревоженную ветром.
Дробь осенних дождей мне отстукивает чье-то послание с неба.
Дротик судьбы опять надо мной пролетает со свистом тысячелетним.
Думы свои пилигрима вверяю в пути одиноким деревьям:
Доверху кроны увиты серебряным отблеском молний,
Донизу корни омыты росою несбыточных снов и желаний.
Донкихоты ушли, как уходит за даль горизонта караван бактрианов11.
Утяжеленная повторами «строфико-синтаксическая анафора» (Квятковский) несет основную семантическую нагрузку. Анафора концентрирует всю идею и раскрывает семантику стихотворения, выделяя кодовые архетипы, символы и концепты. Такого рода «анаграмматические субституты» (Тюпа) создают сложные внутритекстовые отношения с особым семантическим наполнением. И заключительная девятая строфа, состоящая из этих же повторяющихся строк, доминирующих в каждой строфе, диктует ценностные позиции лирического героя. Избранный автором формат оформления восьмистиший придает целостный вид всему дискурсу:
Донкихоты ушли, как уходит за даль горизонта караван бактрианов.
Дуньхуанские тени отшельников опять замаячат в пространстве.
Майский павлин распускает хвост, словно феникс подземного мира. Мантры Востока сами в моих оживают устах у подножья Вселенной. Шелковый путь продолжается, и бодисатвы глядят на Восток и на Запад. Шторы миров раздвигает летящая птица, подавая мне знак путеводный. Сага времен продолжается в каждом мгновенье, улыбке и жесте.
Страннику много ли надо в пути обретенья себя через дали12.
Думается, что использование начальной аллитерации как особенности монгольского стихосложения диктует и применение таких обязательных средств построения текста, как повтор и параллелизм.
Следует заметить, что композиционное строение стихотворений Ду-гарова имеет прямые параллели со структурой организации лирического дискурса современных монгольских поэтов. В традиционной монгольской поэзии как одна из распространенных форм композиционного построения текста используются разные варианты повторяющихся и параллельных конструкций. Так, например, в стихотворении Я. Бадамсурэна «Прозрачно» (Тунгалаг) повторяется одна строка через строку: «Когда над горой моей взошла полная луна, / Оседланный конь у коновязи отчетливо ви- ден. / Когда над горой моей взошла полная луна, / Зов каурого изюбря ясно слышен» (Ууланд минь арван таены cap мандсан байхад / Уяан дээр эмэ-элтэй морь зогсох нь тунгалаг. / Ууланд минь арван таены cap мандсан байхад / Ухаа хонгор бу га ижлээ дуудах нь тунгалагу'. Ритмико-эвфоническая структура данного лирико-философского произведения имеет свои особенности. Все стихотворение (21 строка) четко выстроено с начальной аллитерацией (буква у) и повтором конечных слов (байхад, тунгалаг), что создает жесткую конструкцию строфико-синтаксической анафоры, а повторы не утомляют, ибо в текст виртуозно заложена игра со значением слова. Каждый вариант значения повторяющегося слова прозрачно является кодом для прочтения текста, где при изменении контекста трансформируется и смысл кодового слова.
Книгу Б. Дугарова отличает разнообразие форм стихосложения. Поэт, используя монорим, распространенный в классической поэзии Ближнего и Среднего Востока, в стихотворении с тем же названием повторяет одну рифму, более близкую к национальным фольклорным формульным клише, обозначенным анафорическим созвучием и фономорфологическими рифмами. В данном случае это аллитерация и конечная рифма, состоящая из глагола прошедшего времени:
А-ля питомец муз он вольно жил. Альянсом с небесами дорожил, Александрийский стих ему был мил, Аллитерации всегда ценил, Альтовый звук слегка боготворил14.
В анафорических сонетах Б. Дугарова использована сложная и многогранная система организации стихосложения, в первую очередь, необходимо обратить внимание на сочетание рифмованных и нерифмованных строк, связь начальных и конечных рифм, перекрестную рифму. Затем - на разнообразные виды анафор в роли звуковой и ритмической организации стиха. Как известно, «стих имеет движение по горизонтали и вертикали» (Томашевский), и здесь свои особенности организации начального вертикального ритма аллитерацией, внутреннего ритма горизонтальными звуковыми соответствиями:
Номадов отпрыск, памяти тяжелой бремя С годами ощущаю все сильней, сильней. На самого себя я оглянусь сквозь время, Сквозь дали горизонтов, брезжущих во мне. Оленный камень сторожит мое мгновенье. Осенний лист парит как выдох сновидений. И путь очерчивает молнии зигзаг15.
В семантическом аспекте два оппозиционных образа оленный камень и осенний лист, олицетворяя вечность и сиюминутность, открывают путь номада от сегодняшнего дня до истоков. Лирический герой Дугарова -философ, чувствующий в себе весь путь своего народа и ответственный за его будущее.
В бурятской поэзии является открытием и эпическая поэма «Стрела Хухэдэя». Дугаров обращается к древней эхирит-булагатской версии мифа, но по его авторскому замыслу, в поэме задана новая тема и развивается сюжетная линия, отличающаяся от традиционной народной версии. Название поэмы «Стрела Хухэдэя» диктует композиционное построение и семантическое наполнение текста. По мифологической версии, бог-громовержец посылает молнии на землю, автор метафорически обозначил их как стрелы. В начале текста образ стрелы возникает в известном для всего монгольского мира кодированном виде: «Говорят, родился Гэсэр / Со стрелой Хухэдэя в руке». Далее в композиции поэмы этот художественный образ выполняет свою основную функцию: «Озаренно в богатырском сверкала колчане / Огневая стрела Хухэдэя». В эпилоге поэмы под стрелой Хухэдэя поэт кодирует главного героя Гэсэра: «Будет новых героев рождать / На земле / Огневая стрела Хухэдэя». В поэзии Дугарова художественные образы, используемые как культурные коды, имеют особенность трансформироваться и приобретать дополнительные смысловые нюансы в зависимости от контекста.
В поэме применяется дисметрическая форма улигерного стиха, где превалирует свободная организация стихосложения, куда входят «начальные аллитерации (обнаруживаемые в вертикальных сопоставлениях) и внутренние аллитерации (обнаруживаемые в горизонтальных сопоставлениях) а также конечные рифмы, включая рифмы полустиший»16. В это эпическое традиционное стихосложение поэт вводит собственные новаторские формы. В структуре поэмы разные тематические разделы отличаются звуковым, лексическим, морфолого-грамматическим оформлением. Короткий завораживающе заговорный формульный стих с горизонтальной и вертикальной звуковой анафорой в сочетании с лексической анафорой и повтором строк концентрируют мысли на основных идеях поэмы: «Велено быть / Ворону вороном, / Велено быть / Воину воином». Также значимые коды подчеркивают повторения и вариации с начальной аллитерацией (лексическая и звуковая анафора) и конечной рифмой: «Бился Гэсэр с мангадхаевым родом, / Бился насмерть со злом и его оплотом»17.
Семантически выдержанный синтаксический параллелизм, а внутри строк - ритмические полустишия, характерные для эпического текста, дополняют ритмическую организацию всего текста в повторяющихся конструкциях, но и эти конструкции четко различаются в зависимости от семантики и композиционного построения текста. Так, например, в данном случае автор использует повтор формульных выражений, выделяя структуру мифологического действа: «Семьдесят семь он прошел путей, / Семьдесят семь преодолел смертей»18. Ритмически повторяющаяся строфа ожидаема в организации эпического текста.
В следующем примере применяются повторы в начале каждой строфы как зачин сказания: «Сказывают, / На горе Хан-Уула - обители горных бо- гов / Меч хранится Г эсэра испокон веков... / Сказывают, / Есть на каждой священной горе страны Хухэй / Изваяния каменные Гэсэровых богатырей»19. Чтобы выявить новизну поэмы, вставленные в сюжет повествования авторские интерпретации, необходимо знать не только весь эпос монгольских народов, но и многочисленные народные предания и легенды о Гэсэре, распространенные по всей этнической Бурятии.
В поэзии Баира Дугарова начальная аллитерация или анафора имеет глубоко национальные корни. Как известно, стих «внутренне связан с национальной языковой стихией» (Тынянов), и поэту в анафорических стихотворениях удалось придать форме значимость содержания и выражения национального духа. В творчестве бурятского поэта взаимодействие языков ощущается на разных уровнях: звуковом, метроритмическом, идейно-образном, в стиле письма присутствует неосознанная межъязыковая билингвистическая связь.
В ходе исследования нами установлено, что основными факторами образования новых стиховых форм в русскоязычной бурятской поэзии является использование национальной фольклорной ритмики и всей структуры древнего и современного монгольского стихосложения. В гимнах определено соединение античного гекзаметра с мелодией монгольской протяжной песни, и анафора сцепляет строки в единый ритм. Венок восьмистиший отличается тесной связью содержания и формы, звуковой повтор оказывается тем знаком, который высвечивает кодовое слово. Повтор и параллельные конструкции в стихотворениях объединяет не только внешнее сходство, а принадлежность к древней монгольской стиховой культуре, в которой они являются неразрывными частями целого.
Нами определены основные приемы использования начальной рифмы в поэзии Б. Дугарова: начальная аллитерация, горизонтальная и вертикальная звуковая анафора, лексическая анафора с повтором строк, строфико-синтаксическая анафора, сочетание рифмованных и нерифмованных строк, связь начальных и конечных рифм, перекрестная рифма, внутренние ритмические полустишия, повторяющиеся рифмы с анафорическим созвучием, соответствующие эпическим формульным константам, дисметрическая форма эпического стиха с авторскими новациями и трансформациями формульных клише. Таким образом, установлено системное использование многообразия форм монгольского стихосложения в разных поэтических жанрах.
Анализ звуковой и структурной организации текста показал, что анафорическая форма стихосложения, синтезирующая традиции русского стихосложения с тюрко-монгольской начальной рифмой, расширяет ритмико-стилевые возможности поэтического письма. Использование национальной стиховой традиции обогащает русскую версификацию, формирует и вырабатывает новые средства ритмической выразительности.
Список литературы Особенности стихосложения в русскоязычной бурятской поэзии
- Дугаров Б.С. Азийский аллюр. Стихотворения. Улан-Удэ, 2013. C. 4.
- Тюпа В.И. Аналитика художественного: (введение в литературоведческий анализ). М., 2001. C. 107.
- Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 35.
- Дугаров Б.С. Степная лира: стихотворения. СПб., 2015.
- Алтаргана. Из бурятской народной поэзии/пер. с. бур. Б. Дугарова. Улан-Удэ, 1998. С. 76.
- Антология литературы Бурятии XX -начала XXI века: в 3 т. Т. I. Поэзия. Улан-Удэ, 2010. С. 12.
- Намсараев В. Круг вечности. Улан-Удэ, 1983. С. 30.
- Дугаров Б.С. Струна земли и неба. Стихотворения. Улан-Удэ, 2007. С. 88.
- Монголын сонгомол яруу найраг. Улаанбаатар, 2005. С. 244.
- Чагдуров С.Ш. Стихосложение «Гэсэриады». Улан-Удэ, 1984. С. 127.