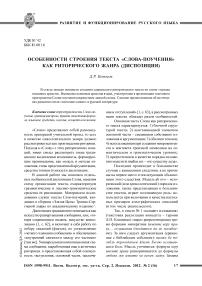Особенности строения текста «Слова-поучения» как риторического жанра (диспозиция)
Автор: Копосов Даниил Робертович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье описан механизм создания сакрального риторического текста по схеме «триада языковых средств». Выявлены основные средства языка, участвующие в организации текстового пространства Слова-поучения посредством данной схемы. Сделано предположение об источниках развития стиля «плетение словес» в русской литературе.
Структура текста, слово-поучение, ораторская проза, триада, текстовая формула, языковое средство, когезия, концепт изложения
Короткий адрес: https://sciup.org/14969650
IDR: 14969650 | УДК: 8142
Текст научной статьи Особенности строения текста «Слова-поучения» как риторического жанра (диспозиция)
«Слово» представляет собой разновидность ораторской учительной прозы, то есть в качестве самостоятельного жанра должно рассматриваться как произведение риторики. Подходя к «Слову» с этих риторических позиций, имеет смысл рассмотреть такие традиционно выделяемые компоненты, формирующие произведение, как модель и методы изложения, типы представленной аргументации, средства топики (топосы) и диспозиции.
В данной работе мы коснемся отдельных особенностей диспозиции Слова, наметим схему организации текста, охарактеризуем грамматические и лексико-грамматические средства ее реализации. Материалом исследования служат тексты Слов-поучений, входящих в сборник «Златая Цепь» Троице-Сер-гиевой лавры по академическому изданию 1.
Диспозиция традиционно понимается как искусство развертывания сообщения, или, «говоря современным языком, искусство композиции» [1, с. 62], и включает в себя работу по отбору сведений (фактов), по установлению «четкого членения сообщения» и обеспечению «внутренней связности между его частями» [там же]. Универсальная композиционная схема сообщения, выработанная еще в античных риториках и представляющая собой совокупность «вступления, основной части, заключе- ния и отступлений» [1, с. 63], в рассмотренных нами текстах обладает рядом особенностей.
Основная часть Слова как риторического текста характеризуется: 1) блочной структурой текста; 2) контаминацией элементов основной части – смешением собственно изложения и аргументации; 3) обилием топосов; 4) использованием при создании микроконтекста и контекста троичной символики на семантическом и грамматическом уровнях; 5) предпочтением в качестве порядка изложения модели in medias res – «по существу дела».
Последнее происходит в большинстве случаев с вынесением следствия, а не причины на первое место и последующим объяснением этого следствия. Модель ab ovo – исторический (или хронологический) порядок изложения, также представленная в большинстве текстов, играет подчиненную роль: используется при включении в качестве наглядных примеров агиографических описаний (в том числе евангельского).
Так, в тексте № 1 «концепт изложения» (текстовая реализация концепта – термин Л.П. Клименко) «вера» репрезентирован тремя формами императива ( имеите веру праву … ослушания блюдитеся да не погибнете ). За ним следует аргументация (сравнение с библейским событием): якоже бе по-гиблъ первозданыи Адамъ Евгою ослушав-шеся Бога . Мысль уточняется: формула веру имеите праву разворачивается до формулы любовь же имеите ко всемъ ладну. Замена
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ одной формулы другой подчеркивает суть «веры», реализующейся в «любви». Экспликация второго концепта изложения – «любовь» – также сопровождается аргументацией: якоже и Христосъ ко всему миру не избирая дая намъ весь образъ собою (далее следует развернутое повествование об основных вехах жизненного пути Сына Божия от рождения до воскресения – пример хронологического развертывания изложения).
Завершается развитие изложения совмещением заявленных в начале двух концептов («вера» и «любовь») как концептов изложения в одной текстовой формуле: все же то створи любовью и верою да научить ны собою хитростью ко спасению хотя ны спасти от мукы въ преидущии век . Здесь же «закольцовывается» композиция (использование формы обращения чада моя милая и употребление форм императива в зачине и в начале основной части): да научить ны … хотя ны спасти от мукы . Форма винительного падежа множественного числа личного местоимения первого лица коррелирует с существительным чада в вокативе (зачин).
Еще одним способом установить связь между концом Слова и зачином является употребление формулы научить ны собою , которая, продолжая и завершая линейное повествование о жизни Иисуса, также соотносится с первой фразой зачина имеите веру праву к Богу Отьца и Сына и Святаго Духа потом-же в послушаньи святыхъ его апостолъ и святыхъ отьць иже пострадаша Христа ради во вся дни живота своего . Форма местоимения собою в конце Слова оказывается семантически синкретичной: указывая на Иисуса как личность (после евангельского сюжета), она одновременно – через логическую связку ( вера к Богу – Христос – собою ) – соотносится с развертываемым в зачине и начале главной части сложным образом Бога ( Богу Отьца и Сына и Святаго Духа ) и дальнейшим расширением этого образа (включающим уже апостолов и святых отцов). Итак, основная структура текста опирается на искусственное построение события, тогда как средства аргументации выстраиваются в линейный, хронологический порядок.
В последовательности развертывания приведенного последним образа в составе
«рамочной композиции» мы видим классическую схему семантико-синтаксического развития контекста по схеме 1=3: Бог1 ( вера к Богу ) + (Бог2 = Бог Отца и Сына и Святаго Духа ) + (Бог3 = Троица + апостолы + святые отцы ) = Бог ( собою ).
Принцип «разложения» мысли на троичные структуры неоднократно представлен в тексте № 1 и далее. Так, в главной (основной) части это конкретизация объекта формулы любовь же имеите ко всемъ ладну , когда определительное местоимение ко всемь разворачивается на следующем листе (л. 1г) в троичный ряд: и къ богату и ко убогу + и к ни-щимъ и к беднымъ + и в узахъ стражющихъ . Единство ряда задается синтаксически (посредством общности функции объекта и использованием повторяющегося союза) и семантически: в первой паре совмещены антонимичные образы, во второй – синонимичные, вместо третьей пары – обобщенный образ, заданный словосочетанием, то есть три разных вида отношений совмещаются в едином представлении ( ко всемъ ), что затем подчеркивается в аргументе якоже и Христосъ ко всему миру не избирая с повтором формы местоимения. Так устанавливается связь между планом изложения и планом аргументации и возникает еще одна троичная конструкция: ко всемь = (a1 > b1) + (a2 = b2) + (ab3) = ко всему миру . Можно наблюдать и иные схемы организации контекста по принципу «утроения» образов, в первую очередь за счет использования глагольных финитных форм и причастий.
В тексте № 3 (Слово о суседе, л. 2в) и других, построенных подобным образом, модель повествования «по существу дела» становится еще более очевидной: Сусhда же не обидите и не отемлите земли его рече бо Моисhеви Бъ пришелца суща не обидите. Трехчленная схема развертывания контекста опирается на лексический повтор глагольной формы не обидите – не обидите, где первый элемент находится в однородной связи с однотипной формой императива не отемлите. Связь подкреплена использованием притяжательного местоимения его и соединительного союза и. Парная конструкция осложняется третьим элементом в составе апелляции к авторитету – ссылки на библейское повествование: Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской (Исход 21:21). Сакрализация действия приобретает грамматически выраженный план – это триада императивных форм.
Далее разворачивается топос «пример», также строящийся как триада на базе парных номинаций. Первый элемент триады содержит парное сочетание Ахавъ и Езавель , второй – аналогичное Дафанъ и Авиронъ , третий – единичную номинацию Еудоксия цесарица , поддержанную в составе высказывания обстоятельством времени при Златоуст h мъ же Иоанне (в контексте тоже представлены два имени собственных, хотя и не в паратактическом отношении друг к другу).
Схема выстраивания этой триады повторяет схему предыдущей: два элемента предполагаются соотнесенными с третьим как со ссылкой на авторитет (в данном случае это – указание на Иоанна Златоуста), а, следовательно, первые два элемента должны иметь максимальное грамматическое сходство. Выше это сходство достигнуто повтором формы императива, здесь – повтором парного сочетания имен собственных в форме именительного падежа. При этом возникло нарушение синтаксических связей внутри конструкции второго элемента: вместо сказуемого в действительном залоге (сравните в первом элементе: Ахавъ бо и Езавель погибоста ) здесь (во втором элементе) предполагалось сказуемое в страдательном, однако необходимость соблюдения грамматической стереотипности элементов триады вынудила автора использовать действительный залог такоже я поглоти земля имения ради неправеднаго . В результате парное сочетание Дафанъ и Авиронъ оказывается не прямым дополнением в конструкции с действительным залогом (например, Дафана и Авирона поглоти земля ) и не подлежащим в конструкции со страдательным залогом (например, Дафанъ и Авиронъ от земля погло-щени быста ), а своего рода «именительным темы» для присоединенной бессоюзным способом пояснительной части элемента: Дафанъ же и Авиронъ такоже я поглоти земля …
В третьем элементе опорное имя собственное Еудоксия также употреблено в форме именительного падежа и выступает как подлежащее. Во всех трех составляющих сохраняется представление о действующем лице, действия которого и приводят к его гибели. Результативная семантика оформляется аористными формами погибоста – поглоти – погибе (переход от двойственного к единственному через посредство бессоюзной конструкции сам по себе выразителен в плане создания трехчленной конструкции на основе парных: 2–1–1=3!).
Мотивация результата также представлена стереотипными единицами на уровне словообразования и синтаксиса. Это косвенные дополнения, выраженные именами отвлеченного действия с суффиксом -ние в родительном падеже с послелогом ради : отнимания ради земнаго – имения ради не-праведнаго – отнимания ради неправдою виноградною (лексический, буквальный повтор деривата отнимания в первом и третьем элементах и корневой повтор не-праведнаго – неправдою во втором и третьем элементах подчеркивают целостность троичной конструкции).
Финаль текста предполагает поворот структуры от абсолютной единичности к множественности, от сакральных фигур к профанным потребностям и актуализирует идею Слова-поучения. Соответственно, создается трехчленная градация с ослаблением сакральной семантики Бог – человек – многие (люди) в пределах простого предложения от подлежащего к косвенным дополнениям, связанным градационным союзом не… , но… , а завершает текст форма обращения чада в составе традиционной формулы чада моя , устанавливающая, как мы писали ранее, отношение триединства «паства = чада – проповедник – Бог». Состав сказуемого в последнем предложении включает две однородные императивные формы блюдетеся и не отимаите , подчеркивая сакральную суть наставления, заданную формой обращения чада : Бог и проповедник вместе и каждый по-своему обращаются к пастве. Корневой повтор не отемлите – не отимаите , одинаковое число форм сказуемого в первом и последнем предложениях и совпадение грамматической формы (императива) формируют своего рода «кольцевую композицию» Слова на грамматическом уровне.
Троичные схемы развертывания текстового пространства наблюдаем и в Слове о посте (текст № 2). Рассмотрим основные
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ триады однокорневых и грамматически связанных форм в этом тексте.
В тезисе 1: Послушаите (в зачине) >> имеите (пост) >> да приимете (светлость) – троичное построение от формы императива; Постъ чистъ имеите къ Богу >> егда достоитъ поститися >> въ постныя дни – троичное употребление корневой морфемы -пост- .
В комментарии 1 (в примере): Яко же Моисеи и яко Илья постомь и молитвою огнь угасиша тако же и вы постящеся – троичное именование «Моисей >> Илья >> вы», организуемое парной схемой (корневой повтор постом – постящеся и конструкция с двойным союзом яко и яко – тако); Постя-щеся нищим раздрабляите хлебъ свои >> убогия милуйте >> и седяща присещаите – триада императивных форм (раздрабляйте – милуйте – присещаите) с распространителями местоименного склонения (нищим – убо-гия – седяща). Первый компонент триады содержит дополнительный распространитель в винительном падеже хлеб свои, объект диктуемого действия оказывается в дательном, следующие два объекта – уже в винительном падеже прямого объекта, то есть грамматическая сочетаемость определяет относительное увеличение объема первой формулы по сравнению со следующими. Предполагается градация от простейшего действия к абстрактному восприятию (она уже была заявлена в тезисе и в первом примере), а следовательно, второй компонент триады должен быть уточнен относительно третьего, но при этом не до «буквальной простоты» действия в первом компоненте. Это достигается в тексте введением во второй компонент зависимой триады – расшифровки сочетания убогия милуйте в ряду и нищихъ и немощ-нихъ и на улицахъ лежащихъ. Первый ее компонент за счет лексического повтора (нищим – нищихъ) коррелирует с формулой «простейшего действия» (нищим раздрабляите хлебъ свои) и указывает на изменение падежного управления на дальнейшем пространстве контекста (от дательного к винительному), создавая когезийную цепочку между разными формами косвенных падежей. Последний компонент зависимой триады выполняет ту же функцию в отношении словообразовательно различных распространителей, делая возможной замену оты- менного производного (нищий >> убогий) отглагольным (лежащихъ >> седяща). При этом причастные формы не равноправны, так как у первой из них – в подчиненной, меньшей триаде – есть именной распространитель на улицах, а вторая из них уже выступает как самостоятельная синкрета, не требующая уточнения, будучи последним, наиболее «абстрактным» компонентом основной градации от конкретного к отвлеченному, от практического милосердия к осмыслению этого милосердия как свойства человека (ср.: да примете светлость).
В комментарии 2 (в наставлении): Сущая же в темници и беде милуите и утешаи-те >> нагыя одеваите >> сиротъ домаш-нихъ не обидите но паче милуите . Продолжение заданного тезиса разворачивается еще в ряде императивных формул, также имеющем троичную структуру. Что обращает на себя внимание в этой триаде? Относительная сложность первого и последнего компонентов по сравнению со средним. Так, первый компонент содержит две пары однородных членов – парное сочетание императивных форм милуйте и утешайте с дополнением прямого объекта, имеющим распространитель также в виде парной формулы в темници и в беде , то есть используется схема a + b (a + b). Третий элемент триады содержит противопоставленную с помощью противительного союза но пару однородных императивов не обидите но паче милуйте – схема a > b с одиночным распространителем прямого объекта, также имеющим при себе определение (здесь согласованное). Итак, структура, представленная схемой (a1 > b1) + (a2 = b2) + (ab3) =3 и описанная для текста № 1, проявляется и здесь неоднократно, в последнем рассматриваемом случае с иным порядком компонентов: (a1 = b1) + (ab2) + (a3 > b3) = 3. Однако, как уже было отмечено, средний компонент по объему существенно меньше крайних. Следует ожидать, что второй и третий компоненты триады должны быть развернуты относительно своего описанного выше объема, чтобы сохранить параллелизм в пределах всего троичного единства формул.
Это развертывание достигается за счет корневого повтора распространителей второго и третьего компонентов триады на дальнейшем текстовом пространстве, организованном посредством очередного ряда императивных кон- струкций: Гладом же не морите ни наготою то бо суть домачнии твои убозии убоги ибо инде собе испросить а си в твоеи руце токмо зрить. Троичный ряд гладом не морите ни наготою… >> правым же помагаите >> грешныя милуите в первом элементе содержит значительное расширение. Упомянутые корневые повторы (нагыя >> наготою, си-ротъ домашнихъ >> домачнии твои) связывают данную триаду с предыдущей и являются формулами, необходимыми для уточнения второго и третьего компонентов предыдущей триады. «Зависимый», вторичный относительно общей стратегии развертывания текста характер этого распространения подчеркивается введением его через посредство подчинительного союза то бо суть, а противительная конструкция с союзом а внутри этой «расшифровки» восполняет недостаточную развернутость второго и третьего компонента предыдущего троичного единства.
При раскрытии идеи в рамках градации «от конкретного, действенного» к «обобщенному, философско-богословскому» пониманию сути поста как явленного в практике милосердия движение текста задано и лексически: переходом от «домашних» к «странным» – в следующей троичной формуле.
В наставлении 3 и комментарии к нему фрагмент Правым же помагаите >> грешь-ныя милуите >> странныя въ домъ свои введите >> вдовиць призираите >> в бедахъ сущая избавляите >> старца чтите попы и дьяконы яко служителя божия можно понимать двояко: как линейную последовательность из шести компонентов либо (наше прочтение) как триаду с усложненным средним элементом. Во втором случае образ грешныя милуйте уточняется триадой странныя – вдовиц – в бедах сущая (мы сознательно обозначаем эту группу формул через распространители императивной формы, чтобы подчеркнуть возможность увидеть в этих трех прямых дополнениях гипонимы по отношению к гиперониму грешныя). Отношение «гипероним – гипоним» создается на уровне управляющих императивов в связке милуйте: введите в дом – призирайте – избавляйте. Соответственно, внешняя, более крупная триада опирается на отношение формул правым помогайте – грешныя милуйте – старца чтите попы и дьяконы. В совокупности распространители данной триады формул представляют собой «странных = чужих» по сравнению с «домашними» из предыдущего наставления, чем организуется общее движение идеи текста. В пределах же анализируемого фрагмента именные распространители лексически реализуют противопоставление «праведные // неправедные // служители божии». Эта линейная фигура при восприятии слушателем превращается в треугольник, где личность слушателя находится в центре, а заданные именные распространители образуют вершины треугольника: «добро // грех // суд (суждение, но с перспективой Суда Божия)». Осмысление себя в составе двумерной системы отношений – главный смысловой фокус текста Слова, его кульминация.
Можно ожидать, что, достигнув кульминационной точки, движение к высокому, философскому пониманию идеи поста завершится. Действительно, следующие два фрагмента демонстрируют движение мысли по намеченному направлению, но с обратным вектором – через бытовое, личное к иллюстрации из Писания. Рассмотрим этот фрагмент.
В комментарии 4 (к наставлению 2): Челядь же свою милуите и учите на спасение и на покаяние >> старыя же на свободу отпущаите бес потъкновения >> уныя же на послушание на добро поучаи-те. Возврат к профанно-бытовому плану обеспечивается использованием прямых дополнений из лексической группы «домашние» (челядь – старыя – уныя), уже возникавшей на пути к кульминации текста. Второй и третий компоненты в этой группе подчинены первому как гипонимы, то есть имеют вторичную маркированность по сравнению с ним в составе триады: «и тех, в том числе». Единство на синтаксическом уровне задается тройным повтором союза же, единым порядком слов в составе формул (прямое дополнение в препозиции), гиперонимическая функция лексемы челядь подчеркнута удвоением форм императива – милуйте и учите. На словообразовательном уровне триаду объединяет использование во всех трех компонентах имен отвлеченного действия на -ние, а удвоение косвенного дополнения, выраженного именем отвлеченного значения, в первом и третьем компонентах создает «рамочную композицию» три- ады в целом. Это еще не финаль, но уже приближение к ней: мысль развита совершенно, ее следует лишь завершить структурно в соответствии с развитием всей диспозиции in medias res – то есть образом из Писания.
Финаль Слова о посте выглядит так: Яко же Аврамъ каза от разбоя и татьбы их (топос – Бытие 13:8). Это очередная рамочная структура в композиции Слова: союзное средство объединяет данный библейский образ с формулой яко же Моисей и яко Илья постомь и молитвою огнь угасиша из начала главной части текста. Дополнительным грамматическим средством объединения данных фрагментов является повтор формы аориста. Распространителей – косвенных дополнений в родительном падеже – в финали текста не три, а два: от разбоя и татьбы их . Это не разрушение триады, а ее восстановление, если продолжить сравнение начальной и финальной библейских тем: в начальном фрагменте распространитель одиночный.
Другие тексты сборника также демонстрируют сходные модели организации, опирающиеся на структурную триаду того или иного «формата» и соотносимые с риторической концепцией in medias res. К сожалению, объем данной работы не позволяет привести полностью все эти текстовые структуры.
Ближе к модели ab ovo оказывается повествование в текстах № 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17 прежде всего за счет их малого объема и конкретности содержания, реализуемой в одной-двух условных синтаксических конструкциях с союзами аще ли… то и егда , создающими впечатление прямого хронологического порядка мыслей, наличия сюжета, однако и здесь эта модель не выдерживается последовательно.
Итак, можно предположить, что Слово как жанр древнерусской учительной прозы характеризуется в плане диспозиции моделью выстраивания текста с вынесением следствия (а не причины) на первое место и последующим его объяснением – моделью, описанной в риторике как модель in medias res. Языковые средства, обслуживающие данную модель, могут быть восприняты как источники инструментария «стиля плетения словес» в совокупности его основных характеристик, в частности как «триада языковых средств».
Список литературы Особенности строения текста «Слова-поучения» как риторического жанра (диспозиция)
- Клюев, Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция)/Е. В. Клюев. -М.: ПРИОР, 2001. -271 с.
- Матхаузерова, С. Древнерусские теории искусства слова/С. Матхаузерова. -Praha: Univerzita Karlova, 1976. -145 s.