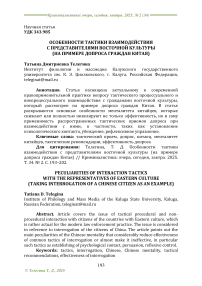Особенности тактики взаимодействия с представителями восточной культуры (на примере допроса граждан Китая)
Автор: Телегина Т.Д.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 (34), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальному в современной правоприменительной практике вопросу тактического процессуального и внепроцессуального взаимодействия с гражданами восточной культуры, который рассмотрен на примере допроса граждан Китая. В статье раскрываются основные особенности менталитета китайцев, которые снижают или полностью нивелируют не только эффективность, но и саму применимость распространенных тактических приемов допроса при взаимодействии с ними, в частности, таких как установление психологического контакта, убеждение, рефлексивное управление.
Тактический прием, допрос, китаец, менталитет китайцев, тактические рекомендации, эффективность допроса
Короткий адрес: https://sciup.org/143184961
IDR: 143184961 | УДК: 343.985
Текст научной статьи Особенности тактики взаимодействия с представителями восточной культуры (на примере допроса граждан Китая)
Вопрос о тактике взаимодействия с представителями восточных культур достаточно актуален в России в последние годы не только в сфере криминалистики, но и в целом в сфере правоприменения.
Происходящий в последние пару лет колоссальный рост интереса российского общества к установлению различного рода научных и бизнес-контактов с вузами, заводами, поставщиками, компаниями из Поднебесной сформировал социальный заказ на создание руководства по взаимодействию, в первую очередь вербальному, с китайцами.
Такого рода публикаций, равно как и пособий по обучению китайскому языку, в последние годы появилось немало. Тем не менее для русского человека китаец навсегда останется тонкой восточной загадкой. Даже при внешне успешном взаимодействии практически каждая встреча с китайским партнером оказывается «котом в мешке», поскольку ее исход далеко не всегда можно спрогнозировать.
Тем более актуален вопрос о взаимодействии в сфере расследования преступлений, где повод для контакта сотрудников правоохранительных органов с представителями китайской общины всегда является негативным, а само общение наполнено стрессом.
Основная часть
Наиболее ярко разницу в тактике взаимодействия китайцев и соотечественников можно продемонстрировать на примере допроса как самого распространенного следственного действия, а также как действия, состоящего в основном из общения. Допрос в процессуальном доказывании, как правильно отмечает В. А. Кондратенко, является универсальным следственным действием, с помощью которого можно получить доказательственную информацию практически по всем обстоятельствам предмета доказывания [ 1, с. 14 ] . Сама же психологическая сущность допроса, по мнению С. К. Пи-терцева и А. А. Степанова, и есть взаимодействие, а точнее – взаимное воздействие друг на друга его участников [ 2, с. 20 ] .
Отечественные криминалисты в течение десятилетий успешно разрабатывают и внедряют в правоприменительную практику множество тактических приемов ведения допроса и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Однако в части взаимодействия с китайцами большинство известных приемов не сработает или приведет к неожиданным для следователя результатам.
Рассмотрим подробнее предложенные в отечественной криминалистической литературе классические тактические приемы и рекомендации, относящиеся к «азбуке» допроса.
Отправной точкой общения при допросе является установление психологического контакта . Одним из тактических приемов на этом этапе является создание благоприятной обстановки допроса (ровный, спокойный тон разговора, уважительность к собеседнику, проявление такта, внимания к нему, понимание его проблем и т. п.). Даже более благожелательный, «ласковый», стиль общения может использоваться в приеме «плохой – хороший следователь». Восприятие такой манеры общения среднестатистическим жителем России можно спрогнозировать так: психологическое напряжение в отношениях снижается, появляется возможность более свободно обсуждать вопросы, формируется доверие между собеседниками, поскольку они равны и уважают друг друга.
С точки зрения китайца, подобное «демократичное» обращение вышестоящего (должностное лица – следователя) к нижестоящему (допрашиваемому) демонстрирует слабость первого, совершенно не снимает психологическое напряжение второго и не способствует свободному общению, побуждает второго уклониться от общения или схитрить при ответе на вопрос. Как пишет А. П. Девятов, лучшая политика во взаимоотношениях с китайцами – это политика с позиции силы, которая не применяется, но демонстрируется. Отсутствие же демонстрации силы приводит в конце концов к выказыванию китайского пренебрежения [ 3, с. 78 ] .
Таким образом, первой тактической рекомендацией по проведению допроса китайца станет избегание приемов по установлению психологического контакта, соблюдение субординации, иерархичности в общении, «прорисовка перспективы» – описание следователем возможных последствий уклонения от ответов на вопросы или дачу ложных показаний.
Н. И. Порубов отмечает, что разработанные и признанные эффективными в теории криминалистики некоторые и широко используемые в повседневной следственной практике тактические приемы допроса заимствованы из педагогики, такие как убеждение, внушение, приведение примера, изобличение и другие [ 4, с. 55 ] .
Метод убеждения состоит в передаче лицу определенных сведений с целью склонить это лицо к конкретному мнению или поступку путем воздействия на его эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы.
Психологическое внушение состоит в определенных советах, просьбах, предложениях, предостережениях и предупреждениях допрашиваемому с целью повлиять на его поведение.
Сущность метода изобличения состоит в активном логическом воздействии на допрашиваемого путем демонстрации несостоятельности его позиции, опровержения отдельных его утверждений совокупностью доказательств, добытых в ходе расследования.
Практически вышеописанные приемы основаны на формальной логике. Однако, как бы странно это ни звучало, логика (в нашем понимании) и китайцы – понятия несовместимые. Вот как об этом пишет китайский автор: «В сравнении с западной философией, китайская проигрывает в таких отношениях, как логика и аргументация, так как центральные элементы китайской философии – мораль и этика – имеют прикладной характер и не требуют строгих спекуляций» [5, с. 78]. А. П. Девятов отмечает, что суть добродетели для китайца состоит в том, чтобы делать то, что правильно, а не то, что логично [3, с. 74]. Китайцы обычно видят только одно решение проблемы, которое для них самое «безопасное», потому что оно следует установленным процедурам. Они даже не будут рассматривать альтернативное или другое рациональное решение. Китайцы больше значения придают чувствам, чем логике, отмечает Н. А. Спешнев [6, с. 140]. Таким образом, большинство тактических приемов, основанных на логическом расчете, неприменимы в отношении китайцев, неэффективны, не работают.
По мудрому замечанию Н. А. Спешнева, иностранцы, пытаясь понять загадочную натуру китайцев, плохо себе представляют сложности в отношениях между людьми восточной культуры, когда речь идет о социуме. Представители Запада обвиняют китайцев в уклончивости и двуличности, китайцы же, в свою очередь, могут упрекнуть европейцев или американцев в черствости и чрезмерной прямоте [ 6, с. 114 ] .
Стоит обратить внимание на то, как сами китайцы характеризуют себя. Например, Линь Юйтан считал, что «тремя богинями, которые управляют Китаем», являются три концепта: «лицо», «судьба» и «благодеяние», причем «лицо» доминирует [цит. по 6, с. 134]. Коротко понятие «лица» можно охарактеризовать как крайнюю важность для китайца сохранения его репутации, в жертву чему могут быть принесены законность и справедливость. А. П. Девятов называет «лицо» наипервейшей характеристикой психологии китайцев [3, с. 73]. Самое главное, что главенствующая психологическая характеристика определяет действия типичного представителя своей нации до такой степени, что в ряде случае влечет за собой правовые последствия. Так, по мнению Линь Юйтан, в китайском обществе невозможны демократия, законность и безопасный транспорт именно из-за превознесения «лица» [цит. по 6, с. 134]. Таким образом, мы видим, что сами китайцы признают, что законность (в западном понимании) и демократия не только не являются целью в китайском обществе, но более того – недостижимы. «Лицо» призвано скрывать внутреннее состояние человека. Так называемая маска – лишь компромисс между истинным его состоянием и тем, что от него требует общество. «Лицо» является количественной формой оценки окружающими публичных достижений индивида, признанием его статуса либо авторитета, что не обязательно соотносится с его моральными качествами… Во имя «лица» китаец может не считаться с собственным здоровьем, проигнорировать «общепризнанные истины» и даже пренебречь существующими законами [6, с. 132].
Китай – глубоко традиционное общество, основанное на конфуцианской морали. Как отмечал бывший госсекретарь США Г. Киссинджер, Конфуций проповедовал кредо об иерархическом обществе, где главная обязанность - «знать свое место» [ 7, с. 27 ] . Другие авторы тоже отмечают, что «для китайца поддерживать гармонию и единство в коллективе важнее подчеркнутого правила распределения благ по справедливости» [ 6, с. 143 ] . Ритуал уважения для китайцев предпочтительнее поиска истины [ 3, с. 74 ] . «Традиционная морально-этическая система Китая содержит различные нормы морали, они влияют на поведение людей и регулируют его, играя в улаживании межличностных конфликтов ту роль, на которую не способен закон» [ 5, с. 80 ] .
Таким образом, мы видим, что поиск истины и восстановление справедливости не являются желанием ни самого индивида в китайском обществе, ни общества в целом. Из этого же утверждения вытекает невозможность апеллировать к чувству справедливости при попытке воздействовать на китайца с помощью методов убеждения или внушения.
В качестве наглядных примеров можно привести уже ставшие классическими китайские фильмы. В одном из них («Цю Цзю идет в суд», 《秋菊打官司》 1992 года) рассказана история о том, как беременная на последних сроках молодая женщина пытается добиться справедливости во всех инстанциях после того, как деревенский староста сильно избил ее мужа, в том числе нанеся удар в промежность. Финал фильма демонстрирует идею о том, что мирные отношения в деревенском коллективе важнее любой справедливости, даже если другая сторона нарушила и моральные нормы, и нормы закона.
В другой картине («Я не Мадам Бовари» 《我不是潘金 莲》 2016 года) муж с женой разводятся с целью приобрести вторую квартиру, поскольку закон ограничивает количество собственности супругов только одной квартирой. После развода муж неожиданно женится на другой женщине, а покинутая жена тратит годы жизни на аннулирование уже состоявшегося развода, апеллируя именно к морали, а не к закону. Для западного зрителя удивительно то, что китайские должностные лица вплоть до столичных чиновников высшего ранга принимают ее ходатайства к рассмотрению, несмотря на наличие официально оформленного развода давностью в несколько лет. Тем не менее ни одно из должностных лиц не решилось принять окончательное решение по ходатайству покинутой жены. Процесс останавливается только в связи со смертью бывшего мужа истицы. Таким образом, фильм демонстрирует главенство морали над формальным законом в сознании представителей китайского общества и даже в сознании представителей профессионального юридического сообщества Китая.
Следующей особенностью представителей Поднебесной является коллективизм в некой его крайней форме – в том смысле, что коллективу придается более важное значение, чем отдельной личности. Аксиоматично, что для восточной культуры характерен коллективизм, а для западной – индивидуализм. Однако для европейцев не всегда очевидны проявления восточного коллективизма. Об этом в частности писал Н. А. Спешнев: «Восточные люди, живущие в пределах коллективной культуры, придают коллективизму особое значение и относятся к нему с пониманием. Они рассматривают коллектив не только как собрание индивидов, но и как более высокую ценность по отношению к индивиду. Индивид может существовать только как член семьи, представитель нации, класса и других коллективных образований» [6, с. 117-118]. То есть китаец рассматривает себя исключительно как часть какого-либо коллектива, и стратегию поведения выбирает именно с точки зрения выгоды для этого коллектива, выполнения своей роли и поддержания репутации в этом коллективе. В этом отношении логически выстроенные аргументы следователя о выгоде сотрудничества со следствием также рискуют разбиться о стену глухого непонимания со стороны китайца.
Восточный человек приспосабливается к обществу не для того, чтобы контролировать других, распоряжаться и управлять ими, а для того, чтобы соответствовать обществу, находиться с ним в гармонии. Приспособиться – значит придавать значение связям, отношениям между людьми, «лицу» [6, с. 118]. Приоритет большой семьи и клана над личностью подчеркивал и А. П. Девятов [3, с. 74]. Таким образом, применение тактических приемов по поиску «слабого звена» среди соучастников группового преступления также имеет мало шансов на успех, поскольку китаец будет спасать не себя, а коллектив и свое «лицо» в этом коллективе, даже действуя очевидно во вред себе. Не следует также забывать и то, что китайцы равнодушны к торжеству справедливости и не имеют потребности в поиске истины.
Следующий тактический прием, который невозможно использовать при взаимодействии с китайцем, – это рефлексивное управление . Его содержание описывается так: «Задача следователя как лица, противостоящего негативной позиции подозреваемого, заключается в необходимости мысленного воспроизведения хода рассуждений своего противника для того, чтобы определить цели, поставленные подозреваемым» [ 8, с. 17 ] .
К сожалению, разница культур, менталитетов и ценностей представителя Китая и представителя России делают невозможным прогнозирование вторым хода мыслей первого. Помимо описанных выше особенностей менталитета, следует подчеркнуть то, что мы называем двуличностью, хитростью восточных людей.
Как точно подметил Н. Спеш-нев, наиболее закрытая от иностранцев особенность восточноазиатской цивилизации – страта-гемность мышления ее представителей [6, с. 124]. Стратагема -стратегический план, в котором для противника заключена какая-то ловушка или хитрость. «Тридцать шесть стратагем» – древнекитайский военный трактат, представляющий собой собрание неявных тактических приемов и систему непрямых ходов, используемую для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы. Этот трактат упоминается уже в V в. н. э. Самое главное – он обязателен к изучению в школе. Таким образом, можно представить, насколько глубоко проникли в культуру народа и менталитет каждого его представителя указанные стратагемы (военные хитрости, целенаправленное поведение, направленное на достижение цели непрямым путем). По мнению китайца, прямолинейность в выражении своих мыслей и намерений есть проявление невоспитанности и недостаточного ума. В связи с этим прогнозирование хода мыслей китайцев – задача для европейцев практически невыполнимая. Как отметил Н. Спеш-нев, общаясь с незнакомыми людьми, китаец тщательно взвешивает свои поступки. Он просчитывает ситуацию и поступает в соответствии со здравым смыслом [6, с. 125]. Однако китайский здравый смысл, как мы уже успели рассмотреть, весьма далек от западной логики.
Тем не менее тактика взаимодействия с представителями Поднебесной не может строиться лишь на отрицании эффективности использования классических приемов. Необходимо на основе глубокого изучения специфики народа разработать самостоя- тельные, отдельно стоящие тактические приемы и рекомендации.
Например, оборотной стороной крайнего коллективизма является то, что в отношении китайцев работает такой аргумент убеждения, который не очевиден для индивидуалиста с Запада. Речь идет о том, что «нелицеприятный поступок одного человека может отразиться и на авторитете коллектива, который с ним связан. Например, аморальный поступок школьника может подорвать авторитет школы, в которой он учится. В этом случае «лицо» теряет школа» [ 6, с. 130 ] . Таким образом, в процессе допроса имеет смысл напомнить китайцу о том, что в глазах российского следователя допрашиваемый является представителем всего Китая, а потому должен вести себя так, чтобы стране за него не было стыдно. Глубокую связь китайцев со своим народом А. П. Девятов описал так: «Практически любой китаец – это человек, который всю жизнь может жить за границей, честно платить налоги, но когда родина попросит, он сделает для нее все, что сможет» [ 3, с. 79 ] .
Что касается приземленности в устремлениях, прагматизма китайцев, выражающегося в равнодушии к правде, то его тоже нужно научиться использовать в ходе разработки тактических приемов, например убеждения. Необходимо демонстрировать китайцу непосредственную выгоду от сотрудничества со следствием для него лично, выгоду вполне конкретную и материальную, не имеющую отношения к высоким духовным идеалам.
Еще одной чертой китайца является смирение перед судьбой . Оно тоже приводит к определенным особенностям поведения. Их описал А. П. Девятов: «Смирение китайцев перед течением реки жизни проявляется в их реактивности, в том, что они редко инициируют действия или дискуссии, не торопятся раскрывать свои карты, предпочитая сначала выслушать и выяснить позицию других, а затем только откликнуться на нее и сформулировать свою собственную. Китайцы думают и говорят не одновременно, то есть думают молча. Поэтому предоставление китайцу достаточного времени для обдумывания ответа является ключом к достижению результата, каким бы долгим оно вам ни казалось» [ 3, с. 76 ] . Таким образом, проактивное поведение следователя на допросе, предоставление допрашиваемым необходимых пауз для обдумывания и формулирования ответа также может стать тактической рекомендацией или даже приемом при взаимодействии с представителями Поднебесной.
Выводы и заключение
Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что тактика взаимодействия с представителями восточных культур значительно отличается от тактики взаимо- действия с соотечественниками. Можно выделить следующие тактические рекомендации по проведению допроса китайца:
-
- вежливое общение, но соблюдение следователем субординации в отношении себя самого;
-
- не использовать тактические приемы, основанные на логике;
-
- не апеллировать к справедливости и поиску истины;
-
- убеждение основывать на прагматизме;
-
- апеллировать к тому, что китаец – «лицо» (представитель) его народа, государства, коллектива;
-
- активная позиция следователя на допросе;
-
- увеличенный по времени допрос за счет предоставления допрашиваемому пауз на обдумывание.
Представляется, что набор отдельных рекомендаций по тактике взаимодействия с представителями восточных культур в перспективе вполне может развиться в самостоятельный подраздел криминалистической тактики, а именно тактики допроса.
Список литературы Особенности тактики взаимодействия с представителями восточной культуры (на примере допроса граждан Китая)
- Кондратенко, В. А. Теория и практика допроса в стадии предварительного расследования: автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2004. 28 с. EDN: NHSXZN
- Питерцев, С. К., Степанов, А. А. Тактические приемы допроса: учеб. пособие / 4-е изд., перераб. СПб., 2006. 56 с. EDN: IPIQFF
- Девятов, А. П. Китайская специфика. Для тех, кто принимает решения. М.: Издательство Жигульского, 2008. 254 с.
- Порубов, Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск: Высшэйшая школа, 1978. 181 c.
- Чжэньхуэй, Шэнь. Очерки китайской культуры / пер. с кит. О. Л. Фитуни. М.: ООО "Шанс", 2020. 319 с.
- Спешнев, Н. А. Китайцы: особенности национальной психологии. Санкт-Петербург: КАРО, 2017. 336 с.
- Киссинджер, Г. О Китае / пер. с англ. В. Верченко. М.: Издательство АСТ, 2020. 768 с.
- Алексаньян, К. А. Применение систем тактических приемов при производстве допроса подозреваемого: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 22 с. EDN: NICMPJ