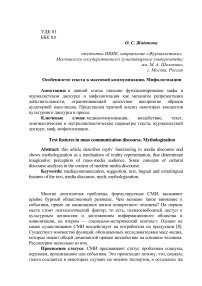Особенности текста в массовой коммуникации. Мифологизация
Автор: Жаданова Ольга Сергеевна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Рубрика: Массовая коммуникация
Статья в выпуске: 13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной статье описано функционирование мифа в журналистском дискурсе и мифологизация как механизм репрезентации действительности, ограничивающий целостное восприятие образов аудиторией масс-медиа. Представлен краткий анализ некоторых концептов культурного дискурса в прессе.
Медиакоммуникация, воздействие, текст, лингвистические и экстрелингвистические параметры текста, журналистский дискурс, миф, мифологизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147218299
IDR: 147218299 | УДК: 81
Текст научной статьи Особенности текста в массовой коммуникации. Мифологизация
Многие десятилетия проблемы, формулируемые СМИ, вызывают крайне бурный общественный резонанс. Чем вызвано такое внимание к событиям, прямо не касающимся жизни конкретного человека? На первом месте стоит психологический фактор, то есть, псевдосвободный доступ к культурным ценностям и достижениям информационного общества и цивилизации, на втором — социально-исторический контекст. Однако не самое существование СМИ воздействует на потребителя их продукции [8]. Существует множество функций, обозначенных исследователями масс-медиа, которые имеют общей доминантой прямое воздействие на сознание человека. Рассмотрим несколько из них.
Присвоение статуса. СМИ присваивают статус проблемам социума, персонам, организациям или событиям. Это происходит потому, что, скажем, газета ссылается в некоторых случаях на мнение экспертов, в остальных же точка зрения газеты по аналогии сама рассматривается непрофессионалом как экспертная оценка. Также персоны, которые оказались в зоне внимания медиа, в независимости от степени негатива, излитого на них, получают автоматически более высокий статус.
Утверждение социальных норм . Медиасредства в состоянии спровоцировать организованное социальное действие при помощи демонстрации девиантного примера. Механизм общественного внимания предполагает, что некоторые социальные нормы неудобны, поэтому многие индивиды отклоняются от исполнения этих норм, однако существует определенная мера толерантности и солидарности — социальной и индивидуальной, в пределах которой индивидуальную девиацию не замечают. Когда же позиция индивида тем или иным образом отражена в СМИ, все остальные должны определиться с уровнем конформизма к социальным нормам. Это демонстрирует приятие или неприятие нормы социумом и служит ее укреплению или разрушению.
Следующую существенную функцию средств массовой коммуникации П. Лазарсфельд и Р. Мертон называют «дисфункцией наркотизации» . Широкое распространение медиа приводит к искусственной информированности общества о его собственных проблемах, однако всеобщая гиперинформированность — только камуфляж для массовой апатии. Таким образом, СМИ становятся одним из самых эффективных социальных наркотиков.
Социальный конформизм . СМИ нередко находятся в партнерских отношениях с крупными компаниями, следовательно оказываются включены в экономические схемы большого бизнеса. Результатом этого становится не только реклама спонсоров, но и деформация политики издания в сторону принятых обязательств и ценностей компании-партнера. К тому же, важно не только то, о чем СМИ сообщает, но и то, о чем в издании никогда не говорится. Соответственно, коммерция опосредованно снижает уровень критических настроений, которые могли бы возникнуть благодаря СМИ. Или, наоборот, раздувает информационные поводы.
Перечисленные функции и многие другие одновременно являются и технологиями медиакоммуникаций: белыми, серыми или черными, как их классифицирует профессор Дзялошинский [5]. Несомненно, медиа влияют напрямую на массовые вкусы и пропагандируют определенные идеи. Эти функции представляют собой социальный аспект воздействия масс-медиа на читателя-зрителя-слушателя [10]. Он работает в тесной связи с культурным и языковым аспектами воздействия медиа.
Человеческий опыт опосредован благодаря использованию языка. «Язык и память являются внутренне связанными, как на уровне индивидуальной памяти, так и на уровне институциализации коллективного опыта» [4]. Гидденс, а после него и Маршал Маклюэн, провели многоаспектный анализ влияния массовой коммуникации на социальное развитие. Оба они указывают на то, что глобальные изменения обусловлены не столько содержанием сообщения, транслируемого СМИ, сколько его формой и возможностями воспроизведения. Исследователи также акцентировали внимание на том, что сообщения массовой коммуникации могут быть сформированы и интерпретированы с помощью определенных правил и кодов. Моменты "кодирования" и "декодирования" в процессах коммуникации признаются решающими, а соответственно на передний план выходит значение сообщения и его символическое или языковое выражение [11].
В 1970-х гг. в западных странах возник единый исследовательский комплекс, который был сосредоточен на управленческих, идеологических и культурных аспектах масскоммуникационного воздействия на человека и общество. В связи с этим В.П. Терин выделил три направления исследований массовой коммуникации:
-
1 .Неовеберианский анализ рациональности в «производстве культуры» сосредотачивает внимание на организационных вопросах работы масс-медиа и на поддержании уровня профессионализма и сбыта в условиях конкуренции.
-
2 .Неомарксистский подход делает акцент на том, что любое сообщение массовой коммуникации является символом в широком смысле этого слова.
-
3 .Неодюркгеймианские исследования «публичного восприятия» предполагают, что в результате воздействия масс-медиа, которое порождает у людей чувство солидарности, формируются коллективные представления о действительности.
Последняя теория определяет текст как доминанту в процессах массовой коммуникации, а его восприятие называет основным механизмом их действия. Проследим связь идеи неодюркгеймианцев о природе коллективных представлений с постомодернистической теорией коммуникации. Главным объектом постмодернизма является культурно опосредованный текст. «Постмодернизм в какой-то степени — это порождение идеи, что все слова уже сказаны, следовательно, каждое слово, даже каждая буква — это цитата» [6]. Следовательно, если представления, которые масс-медиа при помощи текстовой информации формируют в сознании людей, массовы и культурно опосредованы, то можно предположить, что текст создает новую полибытийную конструкцию, которая состоит из множества событий, описываемых в сообщении и упрощенных до абстрактной модели.
У лингвистов существует множество определений, каждое из которых акцентирует внимание на различных функциях и характеристиках текста.
По И.Р. Гальперину, текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка)
и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющие определенную целенаправленность и прагматическую установку [3]. Согласно З.Я.Тураевой, текст — это «некое упорядоченное множество предложений, объединенных различными типами лексической, логической и грамматической связи, способное передавать определенным образом организованную и направленную информацию . Текст есть сложное целое, функционирующее как структурно-семантическое единство [5]. Здесь также важно учитывать понятие структурносемантического единства.
П. Гиро же утверждает, что текст — это структура, замкнутое организованное целое, в рамках которого знаки образуют систему отношений, определяющих стилистические эффекты этих знаков [5]. Из определения Гиро следует, что эмерджентность текста обусловлена стилистическими особенностями используемых знаков.
М.В. Всеволодова [5] отмечает, что текст всегда отражает определенные ментальные характеристики носителей языка .
Таким образом, можем вывести собственное определение текста — это совокупность знаков, представляющая структурно-семантическое единство, направленная на конкретную аудиторию и отражающая ментальные характеристики носителей языка. Также следует учитывать такую характеристику как интертекстуальность, значимость которой подчеркивает постмодернистическое понимание текста.
В современной науке текст в совокупности с экстралингвистическими параметрами (социокультурными, психологическими, прагматическими) принято называть дискурсом. Поэтому мы, как Ван Дейк, разграничим понятия: текстом будем понимать формальную конструкцию, систему знаков допустим, заметку в прессе, а под дискурсом — актуализацию этой конструкции под действием экстралингвистических факторов с точки зрения ментальных процессов.
Здесь мы сталкиваемся с определением текста в понимании представителей постструктурализма, в частности Ролана Барта. Он описывает текст как открытую систему цитирования, прочитываемую с помощью бесконечного множества культурных кодов (аналогично исследованиям Маклюэна в системе медиа [9]). В зависимости от типа восприятия, каждый человек повторно изобретает систему кодов, которыми расшифровывает текст. Существует неизмеримое множество прецендентных текстов, концептов и образов, накопленных за тысячелетия жизни человеческой цивилизации, «осмыслений человеческих жизненных ценностей сквозь призму языка с помощью культурной памяти» [7]. К числу наиболее значимых прецендентных текстов относится миф. Особо значимы два аспекта мифа: миф как компонент сознания, конкретно- образный способ мышления, и миф как словесное произведение, являющееся продуктом такого мышления.
Ролан Барт определяет миф как средство репрезентации действительности , точнее, человеческих представлений о ней. Но ведь журналистский дискурс обладает рядом сходных с мифом характеристик и свойств. Дискурс, как и миф, обыгрывает аналогию между смыслом и формой, то есть, между сутью (реальностью) явления и ее медиатекстуальным выражением. Миф является основой менталитета, единым архетипическим механизмом. А журналистский текст использует миф для создания более устойчивой и легко воспринимаемой картины мира. Такой механизм упрощения или «мифологизации» используется как инструмент воздействия, служит основой массовой коммуникации .
Итак, Ролан Барт выделяет три составляющих мифа: концепт, форма и значение. Концепт — это означаемое, форма выражения — означающее. Означающее мифа само по себе двойственно: оно предполагает единство смысла и формы. Оно содержательно, поскольку называет события, которые легко представить, но одновременно формально. Смысл мифа является частью некоторого реального события, он содержит готовое значение, наполненное опытом прошлого, памятью, фактами и идеями, он конкретен и самодостаточен. Однако становясь в означающем мифа формой, паразитически полым значением, смысл лишается конкретности, обедняется. Происходит регрессия смысла к форме, а система значений сводится к единственному конкретному смыслу.
Для демонстрации механизма мифологизации в прессе рассмотрим несколько текстов из газеты «Московский комсомолец».
Ярким примером функционирования мифа может служить «мартовская революция» в театре на Таганке [«Актеры хотят вернуть Любимова», «МК» № 26195 от 26.03.2013]. В репортаже переданы волнения артистов, их реплики и настроения. Передан и буквальный смысл — актеры хотят вернуть ими же выпровоженного Юрия Любимова. Но концепт, который вкладывается автором — новая революция, «смена власти в театрах» вообще. На формирование именно этого концепта повлияла интертекстуальность культурного дискурса — в тексте присутствуют отсылки к другим резонансным материалам о «мятежных» настроениях в театрах.
Однако, возвращаясь к нашему тезису, форма не уничтожает смысл, а только его обедняет. Смысл в этом случае является для формы хранилищем конкретных событий, которые можно при необходимости извлечь на поверхность. Вечная игра в прятки между смыслом и формой составляет самую суть мифа [1]. Форма мифа не является символом, поскольку образ, заключенный в мифе слишком реален. Но его реальность не самостоятельна, она является лишь отражением какого-либо концепта. Концепт у Барта и есть означаемое. Сам концепт — это нечто конкретное, но вместе с тем историчное. Концепт является побудительной причиной к созданию мифа — в случае с Таганкой эпизод из жизни одного театра выявляет повсеместную проблему. Барт подчеркивает открытый характер концепта — это не стерильная сущность, а конденсат исторически обусловленных ассоциаций. Фундаментальное свойство концепта — его предназначенность для определенного круга аудитории или одной функции. При заполнении формы концептом получается, что вторичный смысл означающего становится его истинным смыслом.
Означаемое мифа может иметь несколько означающих. Концепт в мифе может соответствовать крайне протяженному означающему или наоборот, краткая форма может стать означающим концепта с очень богатой историей. К примеру, концепт «спекуляция на именах классиков» имеет историю достаточно долгую — с начала XX века этот процесс набирал обороты, имел выход и в переписывании истории вообще. Но в тексте интервью, посвященном этому процессу, изображается он одной фразой заголовка [«Желтый смех по Леониду Андрееву», «МК» № 26411 от 16.12.2013]. Эта диспропорция смысла и формы ведет к тому, что мифические концепты неустойчивы, история может легко их упразднить. Это побуждает мифолога к созданию особой терминологии — то есть, использованию неологизмов (каковым в данном случае является фраза «желты смех» — аллюзия на «Красный смех» самого Андреева) [2]. Можно найти некоторые общие концепты в словаре — но тогда они не историчны. Если же концепт связан с конкретными обстоятельствами, то он эфемерен и требует нового словесного выражения. Примером может служить еще одна фраза из текста «МК» — «О-балденный спектакль на фестивале школьных театров» [«Пушкин как предчувствие», «МК» № 26415 от 20.12.2013]. Концепт «осовременивание классики» облечен в форму неологизма «о-балденный». С одной стороны, здесь отражается первоначальный смысл — интересный, хороший во всех отношениях, еще и смешной. С другой стороны, за уши притянута ассоциация со сказкой «О попе и его работнике Балде», о которой и идет речь в репортаже. Эта ассоциация и дает нам выход на выражение концепта через неологизм.
Третий элемент семиологической системы мифа — значение. Из всех трех компонентов он единственный воспринимается читателем. По сути, значение и есть сам миф. Значение — это способ соотнесения концепта и формы. «Нет необходимости прибегать к подсознательному, чтобы истолковать миф», — пишет Барт. Концепт в мифе не прячется за форму. Форма дана прямо и непосредственно, она имеет некую протяженность, ее способ манифестации — пространственный (если мы говорим о письменном тексте). Элементы же концепта связаны ассоциативными отношениями, поэтому тип его манифестации — мнемонический. Их отношения — это своего рода отношения деформации. Форма изначально имеет некий смысл, но концепт уничтожает его, заменяя своим, латентным смыслом. Это будет верно и в примере с неологизмом «о-балденный» — стечение смыслов и выбор одного из них, скрытого, выраженного через аллюзию. В обыденной системе языка этой деформации не будет, поскольку форма равна означающему и изначально пуста, не оказывает сопротивления. В мифе это можно выразить так: концепт отчуждает смысл. Делаем вывод — миф это двойная система, в которой чередуется язык-объект и метаязык, чистое обозначение и чистая образность, которые никогда не противоречат друг другу. Ведь, возвращаясь к Балде, узуальное значение слова «обалденный» и смысл неологизма эффективно сочетаются, рождая концепт.
Именно двойственность означающего определяет особенности значения в мифе. При этом миф носит императивный характер, он навязывает свою агрессивную двойственность. Для этого он идет на всевозможные ограничения: множество смысловых возможностей отбрасывается ради однозначного сигнала. Однако, как только этот сигнал достигает читателя, направленность концепта неожиданно оттесняется буквальным смыслом: если вернуться к Таганке, концепт «театральная революция» низводит «мартовскую революцию» до роли инструмента, простого означающего. «Миф есть похищенное и возвращенное слово. Только возвращаемое слово оказывается не тем, которое было похищено; при возвращении его не помещают точно на прежнее место. Эта мелкая кража, момент надувательства и составляют застывшую сторону мифического слова» [1].
Миф никогда не является произвольным, аналогия в какой -то его части совершенно неизбежна. Таким образом, мотивированность — необходимое условие двойственности мифа. Рассмотрим заметку «Мэтр с кепкой» [«Мэтр с кепкой», «МК» № 26279 от 13.07.2013]. Речь идет об артисте-карлике, и головной убор тут совершенно не при чем. Но есть ведь омонимичное «метр с кепкой» — тут уже языковая игра мотивирует значение маленького роста и заставляет обратить внимание на само слово «мэтр», которое определяет вовсе не количественную характеристики роста, скорее качественную — мастерства. Таким образом, в отсутствие мотивации прямого смысла, мы через языковую игру можем обнаружить множественную мотивацию концепта — «талантливые артисты с отклонениями в физическом развитии». Однако мотивированность хоть и неизбежна, но фрагментарна: сохраняется только часть аналогий между смыслом и формой, незначительные детали отбрасываются. В ситуации с мэтром это явственно видно: речь идет не степени комфорта или признания, а о двух качественных состояниях — «талант» и «карлик».
Барт утверждает даже большее — целостный образ исключает возникновение мифа, поскольку миф не закончен, он пользуется неполными образами. В них смысл настолько тощ, что готов принять на себя новое значение — карикатуры, символа или стилизации.
Таким образом, мифологизация в медиатексте нарочито ограничивает потребителя в восприятии целостного изображения. Это ограничение является имманентным творческой составляющей журналистики, а также служит средством для создания гуманных или антигуманных технологий принуждения человека, используемых в массовой коммуникации с последних десятилетий XX века.
Список литературы Особенности текста в массовой коммуникации. Мифологизация
- Барт Р. Семиотика. Поэтика (Избранные работы). М., 1989.
- Басовская Е.Н. Творцы черно-белой реальности: о вербальной агрессии в средствах массовой информации // Критика и семиотика. Вып. 7, 2004. С. 257-263.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2006.
- Гидденс А. Опосредование опыта // Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002.
- Дзялошинский И. М., Пильгун М. А. Медиатекст: особенности создания и функционирования. M.: НИУ-ВШЭ, 2011.
- Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. Учебное пособие. М., 2005.
- Костомаров В. Г., Бурвикова Н. Д. Прецедентный текст как редуцированный дискурс // Язык как творчество. Сб. статей к 70-летию В. П. Григорьева. М., 1996.
- Лазарсфельд П., Мертон P. Массовая коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие // Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002.
- Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2007.
- Основы теории коммуникации/Под ред. проф. О-75 М.А. Василика. М., 2003.
- Уоллакотт Дж. Сообщения и значения // Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2002.