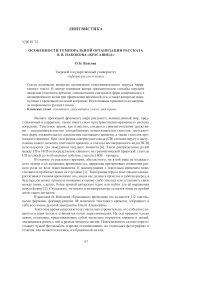Особенности темпоральной организации рассказа В. В. Набокова "Красавица"
Автор: Власова Ольга Борисовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам организации повествовательного корпуса нарративного текста. В центре внимания автора грамматические способы передачи движения текстового времени, специализация глагольных форм совершенного и несовершенного видов при оформлении временной оси, а также авторские манипуляции с временной системой координат. Исследование проводится на материале современного русского языка.
Семантика, грамматика, глагол, вид, время
Короткий адрес: https://sciup.org/146122017
IDR: 146122017 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Особенности темпоральной организации рассказа В. В. Набокова "Красавица"
Являясь проекцией фрагмента мира реального, вымышленный мир, представляемый в нарративе, также имеет свою пространственно-временную систему координат. Текстовое время, как известно, создается грамматическими средствами – последовательностью употребленных повествователем глаголов: третьеличных форм изъявительного наклонения настоящего времени, а также глаголов прошедшего времени. При этом форма совершенного вида (СВ) сигнализирует о наступлении нового момента текстового времени, а глаголы несовершенного вида (НСВ) используются для замедления текущего момента [6]. Такое распределение ролей между СВ и НСВ непосредственно связано с их грамматической природой: глаголы СВ по своей сути обозначают событие, глаголы НСВ – процесс.
В отличие от реального времени, абсолютного, ни в кой мере не подвластного людям и их желаниям, временная ось нарратива претерпевает изменения разного рода по воле повествователя. К манипуляциям с текстовым временем повествователь прибегает вовсе не случайно [1]. Экспериментируя с текстовыми часами, растягивая и сжимая временную ось, уводя нас далеко в прошлое и забегая вперед, в будущее, он может привлечь внимание к какому-либо эпизоду или установить связь между ними, сделать более зримой авторскую идею или найти для её выражения новую форму [2]. Слушателю, читателю и интерпретатору остается лишь не пройти мимо таких сигналов.
В рассказе В. Набокова «Красавица» временная ось создается 112 глагольными формами, формирующими 48 моментов текстового времени, вобравших в себя всю жизнь русской эмигрантки Ольги Алексеевны.
Текстовое время в рассказе течет настолько стремительно, что события сливаются в один поток и становятся почти неразличимыми. На оси времени только девять остановок, представляющих собой несколько портретов героини и людей, оказавшихся рядом с ней в разные моменты жизни. Повествователь словно перелистывает чужой фотоальбом, изредка останавливаясь на отдельных фотографиях и отмечая, как меняется человек, изображенный на них.
Первый из этих моментов («детский портрет») задается глаголом СВ родилась и замедляется тремя глаголами НСВ ( целовали, слыла, было ) (здесь и далее рассказ «Красавица» цит. по: [4, с. 615–619]; выделения курсивом сделаны мною. – О. В.): «Ольга Алексеевна, о которой сейчас будет речь, родилась в 1900 году в богатой, беспечной дворянской семье. Бледная девочка в белой матроске, с косым пробором в каштановых волосах и такими веселыми глазами, что ее все целовали в глаза, она с детства слыла красавицей <…> все это и в самом деле было очаровательно ». Это было «нарядное, покойное и веселое» время, но оно осталось далеко в прошлом: «Нарядно, покойно и весело, как исстари у нас повелось, прошло это детство: луч усадебного солнца на обложке “Bibliothèque Rose”, классический иней петербургских скверов. Запас таких воспоминаний и составил то единственное приданое, которое оказалось у нее при выходе из России весной 1919 года». Заметим, что в замедленном фрагменте практически нет глаголов движения и говорения. Формы НСВ представляют крупным планом статичную картину описательного характера.
1917–1919 годы, страшное и трагическое время в жизни героини, повествователь буквально пролистывает, взгляд успевает отметить только два события, заданные глаголами СВ умерла и расстреляли : «Все было в полном согласии с эпохой: мать умерла от тифа, брата расстреляли , – готовые формулы, конечно, надоевший говорок, – а ведь все это было, было, иначе не скажешь, – нечего нос воротить». Момент, вводимый глаголом СВ расстреляли, хоть и замедлен двумя формами НСВ ( было, было), но вообще не имеет семантического расширения: воспоминания об этих годах слишком болезненны, ими не дорожат, напротив, их изгоняют из памяти. Замещая неприятные воспоминания, повествователь прибегает к ретроспекции: « А была в ее жизни пора , – на исходе шестнадцатого года, что ли, – когда, летом, в дачном месте близ имения, не было гимназиста, который не собирался бы из-за нее стреляться, не было студента, который… Одним словом: особенное обаяние , которое, продержись оно еще некоторое время, натворило бы… нанесло бы… Но как-то ничего из этого не вышло, – все было как-то не так, зря: цветы, которые лень поставить в воду; прогулки в сумерки то с этим, то с тем; тупики поцелуев». Повествователь словно тянет время, стараясь как можно дольше задержаться в прошлом, воспоминания о котором и сладостны, и горьки. Жизнь много обещала героине и в детстве, и в юности, но ничего не сбылось: « …ничего из этого не вышло, – все было как-то не так, зря…».
В следующий раз текстовое время замедляется в восьмом и одиннадцатом моментах, представляя героиню в возрасте девятнадцати лет. Девять и восемь глаголов НСВ позволяют крупным планом показать блеклую жизнь героини в эмиграции в Берлине, в те времена, когда еще жив был отец.
Восьмой момент структурируется вокруг глагола СВ не вышло и замедляется девятью глаголами НСВ; при этом изображение опять статично, среди глаголов НСВ нет глаголов движения ( говорила, не бывала, была, была, писала, проживала, служил, славился, был ):
«Она свободно говорила по-французски <…> употребляя какие-то старосветские речения, застрявшие в старых русских семьях; но очень убедительно картавя – хотя во Франции не бывала никогда. Над комодом в ее берлинской комнате была пришпилена булавкой с головкой под бирюзу открытка – серовский портрет Государя. Она была набожна <…> она писала — патриотические, шуточные, какие угодно – стихи.
Лет шесть, то есть до 1926 года, она проживала в пансионе на Аугсбургер-штрассе (там, где часы) вместе со своим отцом, плечистым, желтоусым стариком, на тонких ногах в узеньких брючках. Он служил в каком-то оптимистическом предприятии; славился порядочностью; был не дурак выпить».
Одиннадцатый момент вводится глаголом СВ завелся и замедлен восемью глаголами НСВ ( ходили, танцевала, находила, совала, поднимала, любила, улыбались, не влюблялся ): «У Ольги Алексеевны набралось много знакомых, вся русская молодежь. Завелся особый лихой тончик. “Пошли в кинемоньку”, “Вчера ходили в дилю”. Был спрос на всяческие присловицы, прибаутки, подражания подражаниям. <…> У Зотовых в жарко натопленных комнатах она лениво танцевала фокстрот под граммофон, передвигая не без изящества длинную ляжку, держа на отлете докуренную папиросу и, когда глазами находила пепельницу, совала туда окурок, не останавливаясь. Как прелестно, как многознчительно, бывало, поднимала она к губам бокал… <…> Как любила в углу на диване обсуждать с тем или с другим чьи-нибудь сердечные обстоятельства, колебание шансов, вероятность объяснения, – и все это полусловами, и как сочувственно при этом улыбались ее чистые глаза, широко раскрытые, с едва заметными веснушками на тонкой сизоватой коже под ними и вокруг них… Однако в нее самое никто не влюблялся ». Замедляя текстовое время, повествователь показывает пустую жизнь потерянного человека, не сумевшего принять новую реальность и живущего с оглядкой в прошлое. Ольга Алексеевна « говорила по-французски», но употребляла «какие-то старосветские речения, застрявшие в старых русских семьях; над комодом в ее берлинской комнате была пришпилена булавкой открытка - серовский портрет государя»; она завела много знакомых, но из числа не иностранцев, а из русской молодежи. В жизни Ольги Алексеевны есть только «кинемонька», танцы и «обсуждения чужих сердечных дел», а больше ничего – ни серьезного дела, ни любви, ни семьи, ни друзей. Именно потому из тех лет запомнился только один случайный человек, мелькнувший в моменте тринадцать, введенном глаголом залапал : «…потому запомнился хам, который на благотворительном балу залапал ее, и плакал у нее на голом плече, и был вызван на дуэль маленьким бароном Р., но отказался драться».
После смерти отца жизнь Ольги Алексеевны полетела еще быстрее, это движение времени передается посредством соположения форм СВ: «Но вот жизнь потемнела ; что-то кончилось , уже вставали , чтобы уходить… Как скоро! Отец умер ; она переехала на другую улицу; перестала бывать у знакомых... <...> Так дотянула до тридцати лет». Для описания ощущений от этого периода подходит понятие «быстротечность»: серые будни сливаются в одну цепь: жизнь идет, но ничего не происходит. Обращает внимание глагол СВ c негативной вживленной оценкой [3] дотянула («Пробыть, прожить в каком-н. состоянии до известного срока (разг.). Больной не дотянул до весны » [5]).
Крупным планом показан только момент двадцать три. Повествователь привлекает внимание к тому, как печально изменилась Ольга Алексеевна после смерти единственного близкого человека, бывшего ей опорой и защитой. Она плохо одета и плохо выглядит: «Но волосы потеряли лоск, были плохо подстрижены, черному костюму пошел четвертый год, руки с блестящими, но неряшливыми ногтями были в выпуклых жилках и дрожали от нервности, от хулиганского курения, – и лучше умолчать о состоянии чулок». Повтор наречия теперь, оформляющего скрытую антитезу раньше – теперь, усиливает мучительный контраст «прекрасного далека» и унылого, безнадежного настоящего: «Теперь, когда в сумке шелковые внутренности были так изодраны <…> теперь когда такая усталость…; теперь, когда, надевая единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах <...> теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию <…> теперь, когда солнце зашло за трубу, – Ольга Алексеевна терзалась иногда роскошью каких-то реклам, написанных слюной Тантала, воображая себя богатой, вон в том платье, набросанном при помощи трех-четырех наглых линий, на той палубе, под той пальмой, у балюстрады белой террасы. Ну и еще кое-чего ей недоставало».
Важным событием в жизни героини стала встреча с подругой Верочкой. Чуть позже именно на даче у Верочки произойдет встреча с будущим мужем – русским немцем, состоятельным вдовцом Форсманом.
Действие замедляется постепенно. Сама встреча с Верочкой происходит в момент тридцать пять, заданный глаголом СВ занялась и замедленный одним глаголом НСВ ( шутил ): «Верочка была мастерица устраивать всякие штуки, будь то крюшон, виза или свадьба. Теперь она с упоением занялась судьбой Ольги Алексеевны. “В тебе проснулась сваха”, – шутил ее муж, пожилой балтиец, – обритая голова, монокль».
Пребывание на даче показано чуть детальнее. Тридцать шестой момент задается глаголом СВ приехала и замедляется четырьмя глаголами НСВ ( ругалась, уступала, стреляли, вспыхивали ): «В яркий августовский день приехала Ольга Алексеевна, была мгновенно переодета в Верочкино платье, перечесана, перекрашена, – она лениво ругалась , но уступала , – и как празднично стреляли половицы в веселой дачке, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висячие зеркальца для острастки птиц!»
Момент тридцать семь, представляющий собой портрет Форсмана, структурируется вокруг глагола СВ приехал и замедляется всего четырьмя глаголами НСВ ( просил, был, был, умел ): « Приехал на неделю погостить некто Форсман, русский немец, состоятельный вдовец, спортсмен, автор охотничьих книг. Он сам давно просил Верочку подыскать ему невесту – “настоящую русскую красоту”. У него был крупный, крепкий нос с тончайшей розовой венкой на высокой горбинке. Он был вежлив, молчалив, минутами даже угрюм, – но умел тотчас же, как-то под шумок, подружиться навеки с собакой или с ребенком».
Наконец, момент тридцать восемь, содержащий очередной портрет героини, вводится глаголом СВ напала и замедляется уже двенадцатью глаголами НСВ ( делала, чувствовала, заходила, казалось, не говорила, давала, хлопали, гуляли, разговаривал, наливались, падали, играли ): «С его приездом на Ольгу Алексеевну напала дурь; вялая и злая, она все делала не то, что следовало, она и сама чувствовала , что не то, – и когда речь заходила о бывшей России <…> ей казалось , что она все врет и что все понимают, что она врет, – и потому она упорно не говорила всего того, что Верочка старалась напоказ из нее извлечь, да и вообще не давала ничему наладиться. Хлопали в карты на веранде и толпой гуляли в лесу, – но Форсман все больше разговаривал с Верочкиным мужем, вспоминая какие-то проделки юности, и оба докрасна наливались смехом и, отстав, падали на мох. Накануне отъезда Форсмана играли , как всегда, по вечерам в карты на веранде».
Значительное замедление текстового времени (коэффициент 12) позволяет увидеть, насколько не воодушевлена Ольга Алексеевна происходящим в её жизни. Даже от такого важного события, как первая встреча с будущим мужем, в памяти сохранились только досада и скука, резко контрастирующие с теплыми, дорогими сердцу воспоминаниями о детстве и юности.
Конец рассказа (с 39 по 48 момент текстового времени) содержит наибольшее количество форм глаголов СВ Жизнь стремительно несется к развязке, не оставляя после себя ничего. Девочка с веселыми глазами осталась только на дет- ских фото, а дальше мы видим всегда скучающую отстраненную барышню, сердце которой не отзывается ни на что: ни на жизнь в другой стране, ни на смерть отца, ни на встречу с будущим мужем. В памяти не сохранилось даже свадьбы, даже момента, когда героиня узнала о своем будущем ребенке. Ей дороги только воспоминания о детстве и юности: «…вдруг Ольга Алексеевна почувствовала невозможное сжатие в горле, – ей удалось все же улыбнуться и без особого спеха уйти. <…> Рано утром она вышла опять и села на уже горячую ступень. Форсман в синем купальном халате сел рядом с ней, спросил, согласна ли она стать его супругой… <…> Когда они пришли к завтраку, то Верочка, ее муж и его кузина танцевали несуществующие танцы, и Ольга Алексеевна ласково протянула: “Вот хамы”, – а следующим летом она умерла от родов».
Как видим, с помощью соположения глаголов СВ, придающих повествованию особый скрытый динамизм, и глаголов НСВ, укрупняющих отдельные статичные моменты описательного характера, автору удается передать особую внутреннюю напряженность, подвести к осознанию простой в своей очевидности, но крайне важной идеи: когда одна дверь счастья закрывается, рядом может открыться другая, но её нужно захотеть увидеть, в неё нужно захотеть войти. Если же уставиться взглядом в закрытую дверь, то ничего, кроме этой закрытой двери, видно уже не будет.
Список литературы Особенности темпоральной организации рассказа В. В. Набокова "Красавица"
- Власова О. Б. Специфика определения времени глагольных форм в повествовательном тексте//Русское слово в языке и речи. Брянск, 2000. С. 266-271.
- Власова О. Б. Темпоральная организация главы «Органчик» в романе «История одного города»//Языковая система и художественный текст. Тверь, 2001. С. 65-78.
- Власова О. Б. Словообразовательный механизм формирования вживленной оценки.//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 169-174.
- Набоков В. В. Собр. соч. русского периода: в 5 т. Т. 3. СПб.: Симпозиум, 2006. 848 с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии, 2006. 944 с.
- Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.