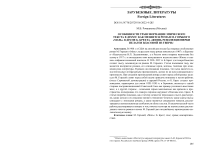Особенности трансформации эпического текста в драму: как меняется роман М. Горького «Мать» в драме Б. Брехта «Жизнь революционерки Пелагеи Власовой из Твери»
Автор: Ромашкина Мария Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В 1906 г. в США на английском языке был впервые опубликован роман М. Горького «Мать»; на русском языке роман появляется в 1907 г. в Берлине в «Издательстве И.П. Ладыжникова», а в России книга впервые напечатана без купюр в 1917 г. в пятнадцатом томе выпущенного издательством «Жизнь и знание» собрания сочинений писателя. В 1930-1932 гг. Б. Брехт для театра Комедии создает пьесу, основанную на романе М. Горького. Статья посвящена тому, как меняется восприятие романа, его основные герои, мотивы, тематика при изменении рода литературы. В рамках исследования показано, что пьеса является самостоятельным литературным произведением, далеко не во всем совпадающим с оригиналом. При создании произведений авторы ставят перед собой разные цели: если М. Горький ставит перед собой задачу привлечь внимание к жизни рабочих (после Сормовской демонстрации) в царской России, то Б. Брехт создает произведение, характерное для эпохи 1920-1930 гг. в Германии, используя с одной стороны постреволюционный Советский Союз как пример успешного восстания масс, а с другой стороны - показывая героев максимально вне времени и пространства, подчеркивая, что главную героиню окружают «Власовы всех стран». В статье подробно показано, как и почему меняются персонажи в пьесе, рассмотрено, какие детали в их описании меняют отношение читателя, какие сцены пьесы совпадают с эпизодами романа, а какие являются совершенно новыми, рассматриваются композиционные особенности обоих текстов. В заключительной части работы рассматривается вопрос о том, почему несмотря на значительные расхождения в текстах романа и пьесы М. Горький дает позднейшему произведению положительную оценку.
М. горький, «мать», б. брехт, эпос, драма, компаративистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149141354
IDR: 149141354 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-285
Текст научной статьи Особенности трансформации эпического текста в драму: как меняется роман М. Горького «Мать» в драме Б. Брехта «Жизнь революционерки Пелагеи Власовой из Твери»
В 1906 г. в США на английском языке был впервые опубликован роман М. Горького «Мать»; на русском языке роман появляется в 1907 г. в Берлине в «Издательстве И.П. Ладыжникова», а в России книга впервые напечатана без купюр в 1917 г. в пятнадцатом томе выпущенного издательством «Жизнь и знание» собрания сочинений писателя. В 1930-1932 гг. Бертольд Брехт для театра Комедии создает пьесу, основанную на романе М. Горького.
Перенесение эпического текста в драматическую форму - явление, которое встречалось в литературе с середины XVIII в., однако приобрело особенную популярность в XIX в., когда на сцену, чаще в форме оперы или балета, попадают становившиеся все более популярными романы. Так, например, «Пуритане» Вальтера Скотта в обработке французских драматургов Жака-Франсуа Ансело и Жозефа-Ксавьера Сантина («Круглоголовые и кавалеры») приобретают особую мировую популярность в

опере Винченцо Беллини, написанной на либретто Карло Пеполи. Роман «Дама с камелиями» А. Дюма-сына становится основой для оперы Джузеппе Верди «Травиата» на либретто Ф.М. Пьяве.
На русской сцене в конце XIX в. как самостоятельные драматические произведения ставятся повести и романы Ф.М. Достоевского (в 1878 г. Л.Н. Антропов написал комедию «Очаровательный сон» по мотивам повести «Дядюшкин сон»), Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. В первые десятилетия XX в. к инсценировкам классических произведений русской литературы обращается Художественный театр («Братья Карамазовы», 1910 г, «Николай Ставрогин», 1913 г). А в следующее десятилетие отдельного упоминания заслуживает авторская сценическая версия романа М.А. Булгакова «Белая Гвардия» - «Дни Турбиных» (1925 г).
Поэтому перенесение на сцену эпических текстов, несмотря на известное высказывание Ф.М. Достоевского, считавшего, что «...есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической» [Достоевский 1996, 6], нельзя считать чем-то необычным.
Вместе с тем пьеса Б. Брехта по роману М. Горького - редкий пример перенесения эпического текста в драматическое русло, включающий одновременно не только смену языка («перевод» с русского на немецкий) и, как следствие, социокультурных факторов, но и «перевод» во времени и пространстве (от момента создания текста романа до написания и постановки пьесы проходит более 20 лет, за которые меняется мир (закончилась Первая мировая война, и очевидны предпосылки к Второй мировой войне), страна («падение» Российской империи, свершившееся в результате Октябрьской революции), роль и положение автора романа на родине (от опалы и тюремного заключения до всеобщего признания и переименования городов, центральных улиц, театров, школ, колхозов и т.д.), социокультурный и языковой.
Однако было бы ошибкой называть пьесу Брехта исключительно сценической версией романа, так как авторский текст Горького претерпевает множество изменений. Эти изменения можно наблюдать на всех уровнях текста: в системе персонажей, сюжете и композиции, а также задачах, которые ставят перед собой авторы.
Пьеса Брехта состоит из 14 сцен, только 8 из которых по времени совпадают с описываемым в романе - вокруг 1905 г, первой русской революции и событий, приведших к ней и последовавших за ней. Затем Брехт показывает события 1912 г, 1914 г, 1916 г. и, наконец, 1917 г, которые, конечно, отсутствуют в романе, написанном в 1906 г. Однако и первые восемь сцен пьесы являются не повторением эпизодов романов, но самостоятельным развитием или переосмыслением исходного текста. Так, пьеса открывается размышлением Пелагеи Власовой о плачевном финансовом состоянии ее семьи, жалобой героини на то, что «суп стал еще плоше» [Брехт 1963, 1]. Подобной сцены нет в романе, она по-другому характеризует главную героиню и ее взаимоотношения с сыном (на этом мы оста- новимся подробнее ниже), однако сразу вводит читателя в контекст жизни рабочих. Таким образом, при сохранении общей канвы сюжета развитие персонажей происходит в несколько иных ситуациях, а значит, меняется их психология и восприятие читателями. Из восьми сцен, совпадающих по времени действия с романом, только четыре сцены возможно сопоставить с конкретными сценами романа: это стачка из-за «болотной копейки», демонстрация 1905 г., посещение главной героиней сына в тюрьме и поездка Пелагеи Власовой с агитационными материалами к крестьянам. Однако среди этих сцен только одна - посещение Пелагеей Власовой сына в тюрьме - близка роману по сюжету, деталям и цитатам.
В книге это XIX глава, а в пьесе - VII сцена. В романе встречу Павла с матерью предваряют наблюдения и размышления матери о встреченных ею в тюремной канцелярии людях. Здесь она встречает старуху («Лицо у нее было сморщенное, а глаза молодые» [Горький 1970, 4]), сын которой находился в тюрьме уже более девяти месяцев, и в ее ответе Власова чувствует «что-то странное, похожее на гордость» [Горький 1970, 4]; «лысого старичка» [Горький 1970, 4], который говорит о подорожании, о нарастании социального напряжения, о том, что «примиряющих голосов не слышно» [Горький 1970, 4]; отставного военного; полную женщину с дряблым лицом. У каждого из них своя история, свое мнение, свой голос. Все они при этом кажутся Пелагее чужими: «во всех мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили иначе, понятнее, проще, громче» [Горький 1970, 4]. Вместе с Пелагеей Власовой читатель знакомится и с надзирателем «с квадратной рыжей бородой» [Горький 1970, 4], которого ей хочется «толкнуть в спину» [Горький 1970, 4], чтобы поскорее увидеть сына. В пьесе в этой сцене только трое: Павел Власов, его мать и тюремный надзиратель. Это значит, что галерея судеб, которую показывает Горький, у Б. Брехта сводится к истории одного человека, превращаясь в универсальную, приобретая общность.
Как в романе, так и в пьесе, разговор дается тяжело. Авторский голос в романе замечает: «она ждала каких-то других вопросов, искала их в глазах сына и не находила» [Горький 1970, 4]. Вместе с тем в романе в разговор матери и сына проникает еще один персонаж (отсутствующий в пьесе) -Сашенька. Когда Пелагея Власова среди прочего упоминает, что «Саша кланяется», Павел не скрывает радости: у него «дрогнули веки, лицо стало мягче, он улыбнулся». Это вызывает у матери ревность («острая горечь щипнула сердце матери»), и следующий вопрос она задает «с раздражением». Это чувство очень быстро проходит, и в конце сцены героиня уже «растроганная и счастливая». Именно такие детали делают персонажей живыми, настоящими, подверженными сиюминутным страстям и повседневным огорчениям. В пьесе сцена начинается с размышления матери, которая уже некоторое время не видела сына, об общественном долге: «Надзиратель будет очень настороже, но все же мне надо узнать адреса крестьян, интересующихся нашей газетой. Надеюсь, я удержу эту уйму имен в памяти». Функционально эта сцена намного важнее в пьесе, чем в
романе, поскольку является принципиально значимой для развития действия: здесь мать узнает адреса (фамилии и деревни, в которых проживают сочувствующие революции крестьяне), а значит, без этой сцены невозможна дальнейшая поездка Матери в деревню. Как в романе, так и в пьесе сцена важна также развитием взаимоотношений главных героев, так как здесь демонстрируется переход матери на новый уровень увлечения революцией. Вместе с тем этот уровень отличается в романе и пьесе. В пьесе сцена предваряет поездку матери в деревню, в романе же Пелагея Власова впервые рассказывает сыну, что и она сочувствует революционному движению и продолжает начатое им, Павлом, дело. Таким образом, похожие с точки зрения сюжета сцены, прерываемые идентичными понуканиями надзирателя («Разойдитесь, чтобы между вами было расстояние», «Политических разговоров - никаких» и т.д.), имеют в произведениях несколько разные функции.
Исчезновение некоторых сцен в романе обусловлено противоречиями, которые обнажила история. Так, в пьесе «Мать», написанной в 1920 1930 гг, следующий диалог будет выглядеть несообразно историческим реалиям: «Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила: - Так ли, Павлуша? Ведь они - против царя, ведь они убили одного. Павел прошелся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал: - Нам это не нужно!» [Горький 1970, 4]. Можно без труда привести целый ряд подобных примеров.
Некоторые сцены в пьесе Брехта, наоборот, получают дополнительное развитие, например, сцена с болотной копейкой. Если в романе эти «переговоры» с самого начала терпят неудачу (и это опять же показывает, что герой, которому 18 лет, еще юн и неопытен), в пьесе - это настоящая бизнес-коммуникация.
Еще один важный эпизод романа и пьесы показывает, как персонажи учатся читать. В романе этому посвящена финальная часть 27 главы, и ключевой становится фраза Андрея, обучающего Пелагею Власову грамоте: «Только те настоящие - люди, которые сбивают цепи с разума человека. Вот теперь и вы, по силе вашей, за это взялись» [Горький 1970, 4]. В пьесе сцена обучения грамоте более развернутая и среди прочего привносит комический элемент. Кроме того, именно в этой сцене впервые Пелагея Власова показана как лидер, она не боится спорить с учителем, наставляет молодых революционеров.
Как уже было упомянуто выше, различия на уровне сюжета и композиции приводят к значительной смене характеров и мотивов персонажей. Роман Горького открывается описанием слободки и фабрики, высасывающей жизнь из своих рабочих, и описанием Михаила Власова, отца Павла и мужа Пелагеи. Две первые главы романа оканчиваются смертью: «Пожив такой жизнью лет 50, человек умирал», и «через несколько дней кто-то убил ее» [Горький 1970, 4] (о собаке Михаила, которая после смерти хозяина поселилась на его могиле). Эти вводные главы во многом определяют и характер главной героини, Пелагеи Ниловны Власовой, и ее сына
Павла. Она - истерзанная страхом перед суровым, неприветливым мужем, тяжелым бытом, никогда не видевшая другого отношения к себе. Во время одной из первых встреч революционеров у Павла Пелагея вспоминает, как будущий муж сватался, и вся лексическая окраска в этой зарисовке темная и гнетущая: «На одной из вечеринок он поймал ее в темных (курсив мой - М.Р.) сенях и, прижав всем телом к стене, спросил глухо и сердито-.
- Замуж за меня пойдешь?
Ей было больно и обидно, а он больно мял ее груди, сопел и дышал ей в лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону.
- Куда! - зарычал он. - Ты - отвечай, ну?
Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала» [Горький 1970, 4].
Характер Павла также сформирован суровым отцом. Впервые читатель знакомится с Павлом, когда он пытается противостоять отцу: «Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет, Власову захотелось оттаскать его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал: - Не тронь...» [Горький 1970, 4]. Горький также подробно описывает его окончательное становление два года спустя, после смерти отца: сначала попытки казаться взрослым, таким же, как все, как отец («Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери: - Ужинать!», «Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью ... по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки» [Горький 1970, 4]), а затем - поиск другого, непохожего на других пути («Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее...» [Горький 1970, 4]).
Вместе с тем в этих главах нет темы, с которой начинает пьесу Брехт, -«Прямо совестно предлагать сыну такой суп. Но не могу я положить в него масла ни пол-ложечки. Ведь на той неделе ему урезали заработок на копейку в час» [Брехт 1963, 1]. Тема безденежья, безусловно, присутствует в обоих текстах, однако в романе «Мать» она вторична по сравнению с общим настроением беспросветности существования, беззакония, грязи, серости, но бытовые вопросы (отсутствие ночлега, пропитания и т.д.) практически не поднимаются в романе Горького, более того, из первых глав романа читатель узнает, что четырнадцатилетний подросток в состоянии обеспечить себя и свою мать - после столкновения с Павлом, отец замечает Пелагее: «Денег у меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит» [Горький 1970, 4]. В пьесе Брехта тема голода, отсутствия крова, безденежья стоит более остро. Первая зонга пьесы иронично возвещает: «Береги грош заботливей» [Брехт 1963, 1].
Значимо также, что в процессе становления героиня проходит через череду сомнений. Ее мятущееся, не привыкшее думать самостоятельно сознание выхватывает разные мысли и мнения окружающих ее, не во всем

согласных между собой революционеров. Вместе с Михаилом Рыбиным она размышляет: «Господа книжки составляют, они раздают. А в книжках этих пишется - против господ. Теперь, - скажи ты мне, - какая им польза тратить деньги для того, чтобы народ против себя поднять, а?» [Горький 1970, 4] - это размышления Рыбина, которые потом Мать будет обсуждать с сыном и Андреем Находкой и которые последний разовьет весьма высокомерным отношением рабочего к крестьянину: «Ну, и пускай ходит по деревням, звонит о правде, будит народ. С нами трудно ему. У него в голове свои, мужицкие мысли выросли, нашим - тесно там...» [Горький 1970, 4]. В пьесе процесс становления Матери показан стремительно: ее неодобрение революции, страх перед изменениями сменяется страстным принятием за несколько сцен.
Вместе с тем из текста пьесы исключены некоторые значимые для романа эпизоды, например, убийство Исайи и переживания Андрея из-за этого. Убийство Исайи вносит в роман детективный элемент, не являющийся одновременно ключевым для повествования. Такая подача, смешение элементов «низкого», развлекательного жанра с серьезной социальной и философской проблематикой связывают роман Горького с произведениями предшественников, в частности с романами Достоевского. О том же свидетельствует и болезненная реакция Андрея на это событие, когда Андрей, словно Иван Карамазов, обвиняющий себя в убийстве отца, говорит: «Подождите! ... Это не я, - но я мог не позволить...» [Горький 1970, 4].
Пелагея Власова, безусловно, главный герой романа и пьесы, однако в романе дается система разнообразных персонажей, с их различными позициями, противоречиями. В первой части романа мать в большей степени наблюдатель, нежели деятель. Основной деятель первой части - Павел. Пелагея Власова наблюдает, отчасти со страхом, за сыном и за целым рядом полноценных, полноправных персонажей, у каждого из которых есть своя история и свое объяснение, почему они участвуют в происходящем: Сашенькой, Натальей, Рыбиным. Позиция матери формируется на основании встреч и общения с этими людьми.
В пьесе Брехта мать - главный и, по сути, единственный деятель. Ее точка зрения меняется, как уже было сказано выше, очень быстро, в пятой главе она принимает участие в шествии, и после этого ее позиция становится жестче и только крепнет. Все остальные персонажи - это фон, словно хор в античной трагедии. Даже читатель, не только зритель, видит в других персонажах пьесы лишь исполнителей зонг и отдельных реплик.
Та же ситуация возникает и в отношении Пелагеи Власовой к религии. В романе оно долго остается непоколебимым, отчасти меняется восприятие церкви как института, но не религии в целом. В пьесе же до пятой сцены мать несколько раз говорит о том, что «я в бога верую, и о насиль-ничестве и слышать не хочу» [Горький 1970, 4], а впоследствии наблюдает, как ее соседки разрывают библию и комментирует: «Лучше разорвать Библию, чем расплескать еду» [Брехт 1963, 1].
Сопоставление персонажей пьесы и романа показывает, что совпаде- ний не так много. Из тридцати персонажей в списке действующих лиц только пятеро - это персонажи романа: Пелагея Власова, ее сын Павел, Андрей Находка, Антон Рыбин и Николай Весовщиков. Но и их роль сильно меняется. Первое, что бросается в глаза, - это указание возле имени Андрея Находки «рабочие завода Сухлинова». Таким образом из персонажа романа с судьбой, историей, прошлым, планами на будущее, переживаниями, внешней уверенностью и внутренними метаниями он превращается в пьесе в символ, идею революционного движения, выразителя судьбы и позиции народа. Меняются и взаимоотношения Павла и Матери. В романе Пелагея Власова - прежде всего Мать, все, что она делает, делается для того, чтобы помочь сыну, быть ближе эмоционально и физически. Несмотря на свое сочувствие революции, в заключительной сцене романа, где Павел арестован, а Пелагея поднимает выпавшее знамя, она думает о том, что Павел говорит ей: «До свидания мама» [Горький 1970, 4], и ее мгновенная реакция - «жив, вспомнил» [Горький 1970, 4]. В пьесе же, когда Павел Власов, который бежит из Сибири в Финляндию, останавливается у матери (точнее, у учителя Власова), она никак не изменяет привычный ритм жизни, продолжая в первую очередь думать о революционной деятельности, а не о том, чтобы позаботиться о сыне. Об этом, отчасти иронично, говорит сам Павел: «Оттиски будет вынимать мать революционера Павла Власова, революционерка Пелагея Власова. А она заботится о нем? Ни капельки! Чай она ему заварила? Баню истопила? Телка заколола? Ничего подобного!» [Брехт 1963, 1]. И дальнейший их диалог сух и деловит: «Мать. Трудно жилось? Павел. Если бы не тиф, все было бы хорошо» [Брехт 1963, 1]. После этой сцены, внезапно прерванной приходом Зигорского, сообщившего, что необходимо немедленно уходить, они уже не увидятся - Павел будет убит.
Еще один персонаж, упомянутый нами в списке тех, кто переходит из романа в пьесу, - это Николай Весовщиков. Однако необходимо упомянуть, что этот персонаж сохраняет только имя. В романе, как и в пьесе, есть два Весовщикова. В романе это отец (которого повествователь называет вором), Данила, и его сын Николай, молчаливый, нелюдимый человек, который часто приходит к Власовым, слушает, о чем говорят молодые революционеры, и вопрошает: «Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить» [Горький 1970, 4]. В пьесе читатель знакомится с Иваном Весовщиковом, революционером, который принимает на себя заботу о Пелагее Власовой и устраивает ее прислугой в дом к своему брату Николаю, отношение которого к революции пассивно-негативное.
Один из персонажей пьесы - это «Власовы всех стран». Эта общность свидетельствует об идеях мировой революции, широко распространенных в разных странах в этот период. В своих заметках о романе М. Горького, Б. Брехт замечает: «Он заставил прислушаться к делу рабочего класса как к делу общему, всеохватному, делу всего человечества» [Брехт 1963, 1]; эта общность особенно важна для Брехта: И.М. Фрадкин в комментариях к пьесе Б. Брехта отмечает: «работая над инсценировкой, он избегал под-
черкивания моментов местных, национальных, избегал всего, что могло бы сузить общезначимость пьесы, умалить ее интерес и поучительность для зрителей любой страны» [Брехт 1963, 1]. Именно поэтому, когда при постановке пьесы в США персонажи выступали в русских народных костюмах, это вызвало возмущение и отторжение автора пьесы, так как из произведения, актуального для всего мира, оно превращалось в типично русскую (скорее лубочную) историю.
В этом и ключевое отличие романа и пьесы. Роман - это история Матери. Здесь также имеет место обобщение, ведь роман называется не именем главной героини. Горький словно сообщает - так поступила бы любая мать. Вместе с тем это роман, наполненный разнообразными, знакомыми читателю историями людей своего времени. Легко узнается место (царь, жандармы, житейский уклад) и временя (предреволюционные настроения). Пьеса же выходит на новый уровень остранения. Ее персонажи -герои всех стран и всех эпох. Из романа-размышления с элементами натурализма, неоромантизма, впитавшего в себя черты русской литературы второй половины XIX в. (Достоевского, Чернышевского, Чехова), пьеса становится примером немецкого соцреализма.
Конечно, ключевым отличием драмы от эпоса является наличие или отсутствие авторских комментариев. Здесь нужно отметить, что в романе авторского текста не очень много и он несет в большей степени характер описания действий героев («она провела рукой по лицу», «он прошептал» и т.д.), авторский оценочный комментарий практически отсутствует. Однако в самом начале романа есть комментарии, характеризующие отношения Павла с матерью: «Снова стали они жить молча, далекие и близкие друг другу». В пьесе значимую функцию несут зонги и стихи, которые выражают позицию общества. И есть «рабочие» персонажи, которые рассказывают о событиях: «Сначала я держался враждебно, но потом, сознаюсь, мне подумалось - не легче ли договориться по-хорошему. Если мы станем сильнее, думалось мне, с нашим мнением будут считаться».
Таким образом, пьеса Б. Брехта сохраняет общую сюжетную канву, однако в ней присутствуют значительные изменения в событийном ряду, меняются функции и характеры персонажей. В центре произведений - героини своего времени, и их различия обусловлены прежде всего тем, как сильно изменился мир вокруг них. Именно поэтому М. Горький, по воспоминаниям Ганса Эйслера, дал пьесе высокую оценку.
Список литературы Особенности трансформации эпического текста в драму: как меняется роман М. Горького «Мать» в драме Б. Брехта «Жизнь революционерки Пелагеи Власовой из Твери»
- Брехт Б. Театр: в 5 т. М.: Искусство, 1963.
- Брехт Б. О литературе. М.: Художественная литература, 1988. 525 с.
- Головчинер В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2007. 320 с.
- Горький М. Полное собрание сочинений: в 25 т. М.: Наука, 1968–1976.
- Гудков М.М. «Бессмертная фигура Пелагеи Власовой была вне всякой дискуссии…» // Acta Eruditorum. 2018. № 11. С. 33–43.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 т. СПб.: Наука, 1996.
- Жадов В. «Мать» Горького в творчестве Б. Брехта // Русская классика и мировой театральный процесс. М.: ГИТИС, 1983. С. 61–66.
- Назарова В.Т. Ганс Эйслер – Бертольт Брехт. Творческое содружество. Л.: Советский композитор, 1980. 104 с.
- Прополянис Г.Э. Максим Горький и Бертольд Брехт (к истории инсценировки повести М. Горького «Мать») // Максим Горький и литературные искания ХХ столетия. Горьковские чтения-2002 (Материалы Международной конференции). Н. Новгород: Изд-во НГУ, 2004. С. 484–489.
- Райх Б.Ф. Вена – Берлин – Москва – Берлин . М.: Искусство, 1972. 455 с.
- Третьяков С.М. Драматург-дидакт (О пьесе Б. Брехта «Мать») // Интернациональная литература. 1933. № 2. С. 116–118.
- Фортунатова В.А. Сценическая обработка Бертольдом Брехтом романа А.М. Горького «Мать» // Горьковские чтения (Материалы конференции «А.М. Горький и театр», 1976). Горький: Волго-Вятское книжное издание, 1977. С. 157–163.
- Юрьева Л.М. М. Горький и передовые немецкие писатели ХХ века. М.: Издательство Академии наук СССР, 1961. 246 с.
- Bradley L. Brecht and Political Theatre: “The Mother” on Stage. Oxford: Clarendon Press, 2006. 261 p.
- Brecht B. Gesammelte Werke: in 20 Bd. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1968.
- Gorky M. Mother. New York: D. Appleton and Company, 1907. 499 p.