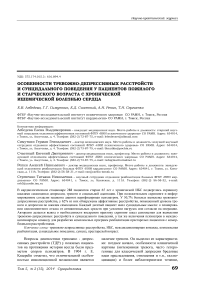Особенности тревожно-депрессивных расстройств и суицидального поведения у пациентов пожилого и старческого возраста с хронической ишемической болезнью сердца
Автор: Лебедева Елена Владимировна, Симуткин Герман Геннадьевич, Счастный Евгений Дмитриевич, Репин Алексей Николаевич, Сергиенко Татьяна Николаевна
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 2 (15) т.5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В кардиологическом стационаре 288 пациентов старше 65 лет с хронической ИБС подверглись скринингу шкалами самооценки депрессии, тревоги и социальной адаптации. При положительном скрининге и информированном согласии пациента диагноз верифицирован психиатром. У 50,7% больных выявлены тревожнодепрессивные расстройства, у 62% из них обнаружены аффективные расстройства, повышенный уровень тревоги и депрессии по шкалам самооценки. Каждый десятый пациент имел суицидальные мысли: о планировании одномоментного отказа от антиангинальных средств при усилении нагрузок или согласие на операцию. Авторами делается вывод о необходимости внедрения практику скрининг шкал самооценки для выявления тревожно-депрессивных расстройств и суицидального поведения, а так же включения психиатров в междисциплинарную команду для разработки комплексных программ реабилитации престарелых пациентов с комор-бидными расстройствами.
Тревожно-депрессивные расстройства, ибс, междисциплинарная команда, комплексная реабилитация, суицидальное поведение, суицид, престарелый возраст
Короткий адрес: https://sciup.org/140141432
IDR: 140141432 | УДК: 575.174.015.3
Текст научной статьи Особенности тревожно-депрессивных расстройств и суицидального поведения у пациентов пожилого и старческого возраста с хронической ишемической болезнью сердца
Вопросы диагностики тревожно - депрессивных расстройств (ТДР) у пожилых пациентов на протяжении истории всегда были предметом споров психиатров. В 1904 г. Е. Kraepelin отметил, что отличительной особенностью инволюционной меланхолии является наличие тревоги. Он выделял ее характеристики: позднее начало, особенности клинической картины (интенсивная тревога, часто гетерогенные для классической депрессии бредовые идеи преследования, отношения и т.п., галлюцинации) и более неблагоприятное течение, плохой прогноз. Однако после того как в 1907 г. G. Dreyfus повторно обследовал 85 больных, отнесенных Е. Kraepelin к инволюционной меланхолии, было выяснено, что более чем у половины из них в прошлом отмечались депрессивные эпизоды, а у 2/3 депрессия сменилась полноценным светлым промежутком. Эти данные заставили Е. Kraepelin в последующем издании руководства по психиатрии объединить инволюционную меланхолию с маниакально-депрессивным психозом [9].
Депрессия у лиц пожилого и старческого возраста часто сопровождается другими серьезными заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, сахарный диабет, онкологические заболевания, болезнь Паркинсона и др.) [7, 13-15]. Врачи и сами пациенты часто считают, что депрессия является естественным следствием этих проблем со здоровьем или социальных ограничений, накладываемых хроническим заболеванием. Кроме того, у людей преклонного возраста некоторые депрессивные симптомы являются общими с симптомами соматических заболеваний (анорексия, уменьшение массы тела, запоры, бессонница, снижение энергии, астения, нехватка воздуха, кардиалгии) [16]. Эти факторы могут приводить к ошибкам в диагностике и лечении депрессивных расстройств и увеличивать риск суицидального поведения [5, 6, 10]. По современным данным около 15% пациентов, страдающих депрессией, совершают законченные суициды [1, 3, 28]. Почти 90% завершенных суицидов связаны с наличием психиатрического диагноза у соответствующего человека, а частота аффективных нарушений составляет 40-70% [17, 18, 26].
Эпидемиологические исследования, проведенные в США, показывают, что 18% людей, которые покончили с собой, были старше 65 лет. Самый высокий уровень самоубийств (учитывались пол и расовая принадлежность) обнаружен среди белых мужчин в возрасте 85 лет и старше: в 2000 году было зарегистрировано 59 смертей на каждые 100000 человек – более, чем в 5 раз выше общенационального уровня США – 10,6 на 100000 человек [26].
Пожилые и престарелые составляют особую группу риска в отношении суицидального поведения, что связано с рядом причин [4, 12]. По данным различных исследований именно депрессия – расстройство, чаще всего ассоциируемое с самоубийством людей преклонного возраста [2, 18]. При этом проявления депрессии у пожилых пациентов, и соответственно суицидальный риск, не всегда хорошо диагностируются в общеврачебной практике. Так, отдельные исследования показали, что многие люди преклонного возраста, умершие в результате самоубийства (до 75%), были на приеме у лечащего врача в течение месяца, предшествовавшего самоубийству [21]. Для снижения суицидального риска среди престарелых лиц необходимо повысить качество выявления и лечения депрессии [12, 27].
Представляется важным иметь в распоряжении критерии, которые бы позволили оценить риск суицида у конкретного пациента, что позволяет принять решение о необходимости, например, специализированного лечения в психиатрической клинике. Отдельные авторы выделяют следующие группы критериев, на которые следует обращать внимание.
-
1. Указания на суицидальность: попытки суицида в течение жизни, суициды в семье или окружении (суггестивное и разрешающее действие), прямые или непрямые угрозы суицида, выражение конкретных замыслов через подготовку или осуществление суицида, «необъяснимое беспокойство» после обсуждения суицидальности и угроз суицида, уничижающие психотравмы, катастрофические травмы и крушение надежд.
-
2. Усиливающие факторы: ажитированное поведение, чувство вины, «застойный» аффект и агрессия, мучительная бессонница, хроническая боль.
-
3. Критические ситуации: начало и затухание депрессивной фазы, греховный или ипохондрический бред, биологические кризисные периоды (пубертат, беременность, роды, климактерий), алкоголизм, неизлечимые болезни.
-
4. Средовые соотношения: семейная дисгармония в детстве, профессиональные и финансовые трудности, отсутствие цели в жизни, потеря межличностных контактов, разочарования в любви, развод, одиночество, отсутствие поддерживающих религиозных связей [24].
Рутинный скрининг наряду с выявлением возможных тревожных и депрессивных расстройств помогает оценить и суицидальный риск. Для скрининга депрессивных расстройств у пожилых людей наибольшее распространение получила шкала депрессии пожилого и старческого возраста [20, 23, 29].
Наиболее оптимальным инструментом для повседневной клинической практики является GDS-4. Она состоит всего из четырех вопросов, которые позволяют легко оценить вероятность депрессии у пожилого человека, а, значит, и оценить вероятность суицида у соответствующего пациента. При этом данная шкала практически также чувствительна, как и более длинные версии этого опросника. Количество баллов 2 и более указывают на вероятный “случай” депрессивного расстройства у соответствующего пожилого человека. Для более точной оценки риска суицида рекомендуется использовать дополнительные психометрические инструменты. В клинической практике легок и удобен в использовании опросник депрессии Бека, который содержит вопрос (пункт «Ж»), касающийся суицидальных мыслей.
Таким образом, при обследовании и терапии пациентов пожилого и престарелого возраста с хроническими соматическими заболеваниями важным аспектом является выявление тревожно-депрессивных расстройств и оценка суицидального риска.
Цель исследования: изучение клинических особенностей тревожно-депрессивных расстройств и суицидального поведения у госпитализированных пациентов пожилого и старческого возраста с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы.
За период с 2009 по 2012 гг. прошли скрининг самоопросниками 288 пациентов старше 65 лет (65-82 лет), госпитализированных в отделение реабилитации больных сердечнососудистыми заболеваниями ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН. Все пациенты страдали хронической ИБС в виде стабильной стенокардии, перенесёнными в прошлом инфарктами миокарда. Госпитализация обычно была связана с коррекцией терапии ИБС.
Для скрининга использовались следующие шкалы: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale), шкала депрессии Бека (BDI – Beck Depression Inventory), шкала тревоги Шихана (ShARS – Sheehan Anxiety Rating Scale), шкала самооценки социальной адаптации (SAS-SR – Social Adjustment Scale – Self Report).
При наличии тревожно-депрессивной симптоматики (по данным опросников) и в случае получения информированного согласия пациенты были осмотрены психиатром. Состояние оценивалось клинически в соответствии с критериями МКБ-10.
Депрессивные расстройства, выявляемые у пожилых людей, в соответствии с критериями МКБ-10 [8] могут кодироваться в следующих диагностических рубриках: органическое аффективное и/или тревожное расстройство (F06.3, F06.4), аффективное расстройство настроения (F3), невротические и связанные со стрессом расстройства (F4), а также к рубрике F2 (шизоаффективное расстройство с преобла- данием депрессивных симптомов). Под расстройством понимается клинически определенная группа симптомов, которые в большинстве случаев причиняют страдание и препятствуют личностному функционированию.
В органическое аффективное и/или тревожное расстройство (F06.3, F06.4) включались различные состояния, гипотетически связанные с органическими заболеваниями, однако не отвечающие критериям деменции или делирия, а также не сочетающиеся случайно с органическим заболеванием, и не являющиеся психологической реакцией на эти симптомы. Тревожное или депрессивное расстройство возникало через несколько недель / месяцев после появления болезни, повреждения или дисфункции головного мозга, а после устранения или излечения от этого повреждения должно наблюдаться выздоровление от психического расстройства, при отсутствии предположительных данных об иной причине психического синдрома (семейная отягощенность, провоцирующий стресс).
К рубрике невротических и связанных со стрессом расстройств (F4) подпадали депрессивные и тревожные состояния, связанные с психологическими причинами (с отражением в клинической картине психотравмирующих событий и наличием временной связи между возникновением событий и симптоматики).
Далее больные были разделены на группы в зависимости от диагностированной рубрики расстройства. Лица без ТДР (по результатам оценки самоопросников) вошли в 1 группу. Вторая группа представлена пациентами с невротическими и связанными со стрессом расстройствами, F4. В третью группу включены больные с аффективными расстройствами, F3. Четвёртая объединила пациентов с органическими аффективными и тревожными расстройствами, F06.3–06.4 (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика выборки пациентов
|
Группы |
n м/ж |
Процент от общей группы больных |
Процент от осмотренных психиатром |
|
1 группа (без ТДР) |
142 108/34 |
49,3 |
0 |
|
2 группа (F4) |
34 20/14 |
11,8 |
23,1 |
|
3 группа (F3) |
91 45/46 |
31,6 |
61,9 |
|
4 группа (F06.3-F06.4) |
21 15/6 |
7,3 |
14,3 |
Наряду с диагностикой психического состояния оценивался суицидальный риск для последующей разработки комплексных программ реабилитации пациентов пожилого и преклонного возраста с хронической ИБС и тревожно-депрессивными расстройствами силами междисциплинарной команды.
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета программ Statistica-8.0. Для оценки параметрических данных использовался Т-критерий для независимых групп; альтернативно Т-критерию, при отсутствии нормального распределения признаков, использовался критерий Манна-Уитни и критерий Вилкоксона (данные представлялись в виде «сред-нее±отклонение среднего», статистически значимым считался уровень р<0,05), χ2 – для оценки частот диагностических рубрик.
Результаты и обсуждение.
Средний возраст обследованных составил 76,0±5,6 лет. Группы достоверно не различались по возрасту (р>0,05). Первая группа оказалась самой многочисленной – 49,3% пациентов (n=142), с преобладанием мужчин (108 мужчин и 34 женщины). Они не выявляли ТДР по данным опросников самооценки депрессии и тревоги. В этой группе отсутствовали пациенты с суицидальным поведением (по данным пункта «Ж» опросника депрессии Бека). Вторая группа – 23,1% от осмотренных психиатром и 11,8% от общей группы больных (n=34), из них мужчин – 20, женщин – 14. Третья группа составила 61,9% от осмотренных психиатром и 31,6% от общей группы, включенных в исследование (n=91, мужчин – 45, женщин – 46).
В четвертую группу включены 14,3% (n=21) от осмотренных психиатром больных, что составляет 7,3% от общей группы пациентов, из них мужчин – 15, женщин – 6. Эти данные соответствуют результатам, полученным другими исследователями при оценке частоты депрессии у больных с ИБС, получающих лечение в стационарных условиях [11].
Следует отметить особенности симптоматики депрессии у пожилых больных с хронической ИБС: выраженное беспокойство о здоровье, трудно корригируемая бессонница, боли в сердце (как стенокардитические, так и кардиалгические). На первый план выходят именно соматические жалобы (в том числе нарушение аппетита и вкуса, запоры, хроническая политопная боль). Имеют место жалобы на плохую память или симптоматика псевдодеменции, анергия («нет сил»), апатия и низкий уровень мотивации («ничего не хочу», «зачем»). Жалобы на плохое настроение редки. Более выражена тревога за здоровье и страх смерти, каким-то образом сочетающиеся с желанием умереть. Тревожная симптоматика преобладает над депрессивной. Клинически часто бывает трудно определиться, является ли расстройство тревожной депрессией или тревогой с депрессивными симптомами.
При опросе пациенты среди стрессовых факторов указывали на переживания в связи со старением и немощью, хронической политоп-ной болью («все болит»), увеличение проблем со здоровьем и количества выставляемых диагнозов («ИБС, стенокардия, аритмия, атеросклероз»), обострение других сопутствующих заболеваний, тяжелая болезнь близкого человека, усталость от госпитализаций, тяжелые жизненные события (утрата: смерть, разлука; переезд для совместного проживания с детьми или из других «республик СССР»), потеря работы, доходов, а также друзей, знакомых, соседей («наше поколение ушло, я одна/один»); утрата независимости («ничего сам не могу», «о любой мелочи нужно кого-то просить»); памятные даты и связанные с ними воспоминания, обесценивание идеалов, присущих советскому периоду истории России, одиночество (особенно у мужчин) и социальная изоляция.
У пожилых и престарелых мужчин с хронической ИБС чаще депрессивный синдром носил оттенок раздражительности, угрюмости, у женщин – тревоги, конверсионных проявлений. Тем не менее, мы встречали больных в возрасте старше 65 лет, у которых депрессия протекала с типичным меланхолическим синдромом.
Таблица 2
Клинические особенности ТДР по данным самоопросников
|
Группы |
HADSa |
HADSd |
BDI |
ShARS |
SAS-SR |
|
1 группа (без ТДР) |
4,9±3,2 |
5,5±3,0 |
16±3,4 |
22,4±19,0 |
39,6±8,3 |
|
2 группа (F4) |
8,4±4,0 |
7,3±2,0 |
20,1±3,3 |
39,3±17,8 |
37,5±6,4 |
|
3 группа (F3) |
9,8±4,4 |
9,2±3,3 |
22,2±4,0 |
37,9±17,9 |
33,4±6,7 |
|
4 группа (F06.3-F06.4) |
11,8±3,0 |
10±3,4 |
23±5,0 |
44±7,6 |
32,8±6,8 |
Наряду с клинической оценкой были проанализированы данные выраженности тревожно-депрессивной симптоматики по результатам заполненных шкал самооценки (табл. 2).
Пациенты с аффективными расстройствами и органическими депрессивными / тревожными расстройствами имели более высокие баллы по шкалам самооценки и нарушение социальной адаптации по одноименной шкале. Достоверные различия (р<0,05) получены при сравнении всех показателей у лиц с аффективными расстройствами (3 группа) и без расстройств (1 группа). Отсутствие различий с другими группами возможно связано с их малочисленностью.
При анализе пункта «Ж» (в опроснике депрессии Бека) выявлены только внутренние формы суицидального поведения. У одного пациента была в анамнезе прерванная суицидальная попытка (ножевое ранение). Частота активных суицидальных мыслей (замыслов и намерений) среди стационарных пациентов ИБС с ТДР составила 2,1% (n=3), 1,0% среди всей группы исследования.
В беседе удалось выяснить о следующих, особых для больных хронической ИБС, суицидальных планах и намерениях: уйти из дома без антиангинальных средств и увеличить физическую нагрузку («оставлю дома нитроглицерин и буду долго идти/бежать, пока не умру от инфаркта», «буду настаивать на операции, хоть умру без боли»), наряду с планом принять большие дозы назначенных лекарств, совершить падение под движущийся транспорт или падение с высоты. Последний способ соверше- ния суицида соматических пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделениях многоэтажных медицинских учреждений, периодически освещается в средствах массовой информации. Эти поступки пугают других больных стационара, деморализуют врачей, и могут быть использованы для поиска виноватых (часто медицинских работников). Хотя в основе лежит недиагностированное психическое, чаще депрессивное расстройство.
Антивитальные переживания и пассивные суицидальные мысли обнаружены у 16,2% больных с ТДР (n=23) – это 8,0% от общей группы пациентов. В беседе пациенты отмечали бессмысленность жизни и нежелание отягощать своим присутствием жизнь близких, нежелание жить далее без конкретных планов (с обращением к Богу «о даровании смерти»).
Оценка риска суицида в пожилом возрасте должна проводиться с учетом определенных факторов [19], наличие которых увеличивает вероятность суицидального поведения у соответствующего пациента (табл. 3).
Ряд авторов [19, 22, 25] указывают на тот факт, что именно совокупность различных биопсихосоциальных факторов обусловливает повышение риска возникновения депрессии и суицидального поведения у пожилых людей. В большинстве стран наибольшая частота суицидов отмечается именно в этой возрастной группе, частично потому, что вред, причиненный самому себе, чаще является смертельным в этой возрастной группе [27]. Высокая частота суицидального поведения обычно объясняется тем, что пожилые люди принимают яд в больших количествах или используют более смертоносные способы и имеют большее желание умереть в связи с хроническим заболеванием и социальной изоляцией [21].
В связи с вышеизложенным, врач, наблюдающий конкретного пациента по поводу со-мато-неврологического заболевания (в том числе с хронической ИБС), должен быть вни- мателен по отношению к нюансам изменения поведения, внешнего вида, изменений в личной жизни у пациента, которые могут «сигнализировать» о повышенном риске суицида.
Это могут быть необычные высказывания:
– размышления о малой ценности жизни;
– фантазии о собственной смерти;
– суицидальные мысли;
Таблица 3
Факторы риска суицидального поведения у пожилых пациентов
|
Общие факторы |
Психиатрические факторы |
|
|
-
– высказывания, фиксированные на кризисной ситуации, состоянии здоровья, неблагоприятном исходе болезни, предстоящей операции, послеоперационного периода;
-
– отрицание объективно существующей актуальной проблемы;
-
– наличие просьб о прощении к окружающим;
-
– высказывание мыслей, содержание которых прямо или косвенно свидетельствует о «прощании».
Необходимо воспринимать серьезно даже, так называемые, угрозы суицида шантажирующего характера.
-
У пациента может появиться необычное поведение:
-
– «уход» в себя, замкнутость, склонность к уединению;
-
– неадекватная стрессовой ситуации гиперактивность;
-
– отказ от помощи; наличие суицидальных угроз;
-
– признаки прощания (раздача долгов, личных вещей, подарков, оформление завещания);
-
– подготовка или наличие плана суицида;
-
– подготовка или наличие средств суицида (накопление или закупка лекарственных средств, сильнодействующих, ядовитых и химических веществ, огнестрельного или холодного оружия, колющих, режущих предметов, шнура, поиск открываемых окон, отдаленных помещений, выходов на крыши зданий, лестничные проемы высоких этажей).
О наличии психических расстройств могут свидетельствовать:
-
– депрессивная симптоматика (сниженное настроение; чувство вины;
-
– нарушение сна (особенно ранние пробуждения) и аппетита;
-
– скорбное выражение лица; малоподвижность;
-
– взгляд в одну точку, избегание контакта глазами и другие симптомы;
-
– психотические проявления (бредовые идеи самообвинения, самоуничижения, преследования, воздействия, слуховые галлюцинации императивного характера («приказывающие голоса»);
-
– нарушения поведения в виде возбуждения, агрессии, страха, тревоги, ажитации, импульсивности.
Выводы:
-
1. Более половины пациентов старше 65 лет, госпитализированных в кардиологический стационар для лечения хронической ИБС, обнаруживают тревожно-депрессивные расстрой-
- ства. Наиболее часто среди ТДР (до 62%) представлены аффективные расстройства. Лица с аффективными расстройствами и органическими аффективными / тревожными расстройствами имеют более высокие баллы по шкалам самооценки депрессии и тревоги, и более низкий уровень социальной адаптации, по сравнению с лицами без ТДР. Однако пациенты с невротическими и связанными со стрессом расстройствами также нуждаются в пристальном внимании, поскольку реактивные состояния так же могут быть связаны с суицидальным поведением.
-
2. Каждый десятый пациент, госпитализированный в кардиологический стационар с хронической ИБС, может иметь антивитальные переживания и пассивные или активные суицидальные мысли. В качестве особых способов суицида они могут выбирать одномоментное прекращение приема антиангинальных средств при выраженных физических нагрузках или оперативное лечение ИБС. В связи с последним у больных с ТДР и хронической ИБС необходимы выявление и терапия психических расстройств амбулаторно, до направления больного в стационар. Только экстренные вмешательства возможны у пациентов с аффективными расстройствами до назначения антидепрессивной терапии.
-
3. Среди клинических особенностей ТДР в этой группе больных следует отметить следующее: неспецифические соматические симптомы депрессии выдвигаются пожилыми пациентами как главные жалобы (анергия, астения, нарушение сна, аппетита, стула), хроническая боль. Эти жалобы могут трактоваться врачами как ипохондрические и/или присущие сопутствующим соматическим заболеваниям, в том числе ишемической болезни сердца.
-
4. Тревога часто сопровождает депрессию позднего возраста. Симптомы депрессии и тревоги могут сосуществовать. Иногда тревога доминирует и, лежащая в основе клинической картины депрессия, не выявляется. Субъективная жалоба на снижение памяти может быть ведущим симптомом депрессии в этом возрасте. Также могут обнаруживаться обсессивнокомпульсивные или истерические симптомы.
-
5. Для врача-специалиста, работающего с депрессивным пациентом, представляется весьма важным иметь в распоряжении критерии, которые бы позволили оценить риск суицида у конкретного пациента, что, в свою очередь, позволяет принять решение о необходимости, например, специализированного стационарного лечения в психиатрической клинике.
В связи с этим необходимо внедрять в клиническую практику шкалы для выявления ТДР и суицидального поведения. При обнаружении пациентов с возможными ТДР и/или суицидальным поведением привлекать специалистов службы психического здоровья для разработки комплексных программ реабилитации лиц с коморбидными расстройствами в пожилом и старческом возрасте.