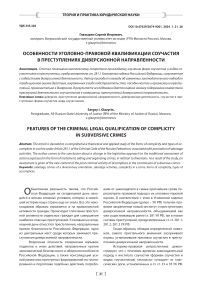Особенности уголовно-правовой квалификации соучастия в преступлениях диверсионной направленности
Автор: Глазырин С.И.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (76), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена комплексному теоретико-прикладному изучению форм соучастия и видов соучастников в преступлении, предусмотренном ст. 281.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сопряженном с содействием диверсионной деятельности. Автор приходит к выводу об изменении законодательного подхода к традиционной оценке действий, выраженных в виде подстрекательства, пособничества и организации преступлений, применительно к диверсиям. В результате исследования дается оценка новому содержанию совместной преступной деятельности соучастников в совершении преступлений диверсионной направленности.
Диверсия, преступления диверсионной направленности, диверсионная деятельность, соучастие в преступлении, формы соучастия, виды соучастников
Короткий адрес: https://sciup.org/14129543
IDR: 14129543 | УДК: 343.326 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_1_21_26
Текст научной статьи Особенности уголовно-правовой квалификации соучастия в преступлениях диверсионной направленности
О бъективная реальность такова, что Российская Федерация на сегодняшний день находится в весьма сложных условиях, которых в новейшей истории наша страна еще не знала. Все это неизгладимым образом отражается и на криминальной активности граждан. Происходит сплочение преступной активности отдельных граждан для совершения наиболее опасных преступлений. К таковым на сегодняшний день относятся преступления, направленные против безопасности Российской Федерации, одно из центральных мест среди которых занимают преступления диверсионной направленности.
Возросшая опасность совершения взрывов, поджогов и иных действий, направленных против экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, а также консолидация усилий различных преступных формирований по планированию и подготовке подобных действий, потребо- вали от законодателя в самые кратчайшие сроки пересмотреть правовой подход к их уголовно-паровой оценке. В соответствии с этим в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) получил правовое закрепление новый институт о преступлениях диверсионной направленности, объединивший как уже существовавшую ранее ст. 281 УК РФ, так и новые составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 281.1, 281.2, 281.3 УК РФ.
Таким образом, обладая определенной новизной, самого пристального внимания заслуживают нормы, установившие признаки соучастия в преступлениях диверсионной направленности.
Историко-правовая ретроспектива демонстрирует, что с течением времени законодательный подход к институту соучастия (формам соучастия и видам соучастников) несколько «отходит» от классических догм, установленных в ст. ст. 33 и 35 УК РФ.
Изначально это было вызвано необходимостью пересмотра уголовно-правовой оценки различных уровней взаимодействия и взаимовлияния друг на друга лиц, совершающих преступления террористического характера (ст. ст. 205.1, 205.4, 205.5 УК РФ) и экстремистской направленности (ст. ст. 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ). Теперь же во главу угла поставлены вопросы борьбы с участившимися диверсиями, а также с сопутствующими действиями по их планированию, подготовке, организации, проведению, конспирации, финансированию и т. д.
Соответственно, реформировав в 2022 году институт ответственности за преступления диверсионной направленности, законодатель пошел по пути весьма тщательной дифференциации видов преступной деятельности отдельных соучастников и форм их взаимодействия между собой. В частности, закреплена новая уголовно-правовая оценка действий подстрекателей и пособников в преступлениях диверсионной направленности (ст. 281.1 УК РФ), организаторов и участников в составе диверсионного сообщества, как новой разновидности преступного сообщества (ч. 2 ст. 281.3 УК РФ).
Сама же статья об ответственности за диверсию в редакции до 2023 года предусматривала ответственность за ее совершение в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ в редакции 2008 года), а все деяния соучастников, не охватываемые диспозицией ст. 281 УК РФ, квалифицировались со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. С 2023 года п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ был дополнен указанием на возможность совершения диверсии группой лиц по предварительному сговору. Стоит положительным образом оценить введение данной формы соучастия с практической точки зрения. Наличие лишь организованной формы соучастия в диверсии создавало бы объективные трудности в доказывании ее основного отличительного признака – устойчивости, лишая возможности более правильной правовой оценки действий тех лиц, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. Подчеркнем, что таких случаев на сегодняшний день встречается достаточно много.
Например, «Р. собрал семерых ровесников – друзей и подругу, после чего ночью они пробрались к релейному шкафу на главном железнодорожном пути и подожгли его. Несовершеннолетние действовали по заказу украинского куратора из неназванного Telegram-канала. Тот обещал денежное вознаграждение за срыв железнодорожного движения. Чтобы подтвердить выполнение заказа и получить деньги, подростки снимали все на камеру. Фото и видео диверсии они должны были предъявить заказчику в качестве доказательства проделанной работы. В результате им удалось остановить движение поездов на
40 минут»1. Другой пример: «… неизвестный, активно поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), списался в мессенджере с несовершеннолетним 2006 года рождения и пообещал ему 150 долларов за повреждение объекта железнодорожной транспортной инфраструктуры. Куратор выдал подростку инструкцию о проведении диверсии. Вместе с приятелем школьник прибыл на перегон Марк – Лобня Савеловского направления, где они подожгли релейный шкаф. Двум несовершеннолетним предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)»2.
Приведенные примеры демонстрируют направленность умысла виновных на совершение диверсии, совместность действий, отсутствие распределения ролей между соучастниками, что полностью коррелирует с уголовно-правовой оценкой такой преступной деятельности в качестве группы лиц по предварительному сговору.
В то же время стоит особо обратить внимание на те формы преступного взаимодействия при совершении преступлений диверсионной направленности, которые получили в рамках уголовного закона новый юридический статус. В рамках данного исследования считаем целесообразным более подробно рассмотреть преступные действия, связанные с содействием диверсионной деятельности.
Итак, содействие диверсионной деятельности отныне является особой формой соучастия и наказывается согласно ст. 281.1 УК РФ. При этом законодатель рассматривает такое содействие через совокупность следующих альтернативно предусмотренных форм (способов), направленных на совершение хотя бы одного из преступлений, указанных в ст. 281 УК РФ:
-
• по ч. 1, 2 ст. 281.1 УК РФ: 1) склонение; 2) вербовка; 3) иное вовлечение; 4) вооружение; 5) подготовка; 6) финансирование диверсии;
-
• по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ: пособничество;
-
• по ч. 4 ст. 281.1 УК РФ: 1) организация совершения хотя бы одного такого преступления; 2) руководство его совершением; 3) организация финансирования диверсии.
Т.М. Лопатина справедливо относит часть указанных форм (склонение, вербовка или иное вовлечение) к подстрекательству и толкует их как «умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица желания совершить диверсионное преступле- ние или участвовать в нем» [6, с. 27]. Соответственно такое содействие преступлениям диверсионной направленности может осуществлять подстрекатель.
Полагаем, что дискуссионным является вопрос о том, какова уголовно-правовая роль субъекта, выполняющего три другие формы содействия – вооружение, подготовка лица к совершению диверсии, а также финансирование. Авторский коллектив в лице М.Л. Прохоровой, М.Г. Горенко и В.В. Чибизова именуют их специальными видами пособничества [10, с. 44]. При этом сам законодатель в примечании 2 к ст. 281.1 УК РФ дает исчерпывающее определение пособничества, но того, которое закреплено в качестве отдельной формы содействия по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ. Но данное определение, во-первых, идентично определению пособничества, установленного в ч. 5 ст. 33 УК РФ, во-вторых, не содержит отсылки к действиям, выраженным в формах вооружения и подготовки лица к совершению диверсии. Но при определении пособничества традиционно используется оборот «предоставление средств или орудий совершения преступления». В этой связи возникает логичный вопрос о соотношении юридических объемов категорий «вооружение» и «предоставлении средств или орудий совершения преступления».
Сопоставляя меры ответственности за пособничество в виде вооружения и пособничество в виде предоставления средств или орудий совершения преступления, очевидно, что оба преступления отнесены к категории особо тяжких. Вместе с тем, если опираться только на лишение свободы, то по ч. 1 ст. 281.1 УК РФ оно установлено на срок от восьми до пятнадцати лет или может быть пожизненным, а по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ – от десяти до двадцати лет. Соответственно законодатель предусмотрел более строгую ответственность за вооружение лиц в целях совершения преступлений диверсионной направленности и вот почему.
Вооружение необходимо толковать как предоставление именно оружия (вне зависимости от его тактико-технических характеристик и видовой принадлежности, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), а также передача иной военной техникой тем лицам, которые в последующем будут совершать диверсию. «Вооружить» согласно толковому словарю С.И. Ожегова означает «снабдить средствами для ведения боя (оружием, техникой и т. п.)» [9, с. 83]. В то время как предоставление таким лицам средств или орудий совершения диверсии предполагает, что потенциальным исполнителям диверсий могут передаваться в пользование как оружие, так и иные предметы, не ограниченные в гражданском обороте (например, веревки, слесарные инструменты, зажигательные смеси, отравляющие вещества и т. п.).
Подготовка лица к совершению диверсии также относится к особому виду пособничества. Роль пособника состоит в том, что он посредствам физи- ческого и психологического воздействия проводит адресную работу по формированию готовности лица совершить диверсию. В отличие от организатора диверсии, пособник не участвует в планировании и координации диверсии, а лишь предоставляет необходимые умения и навыки тем лицам, которые в последующем станут ее исполнителями, повышает их преступную квалификацию посредствам имеющегося у него опыта и специальных знаний.
При обсуждении законопроекта о включении данных действий в состав рассматриваемого преступления, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прямо отметили: «Комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства, в частности, установлено, что на информационных ресурсах ряда изданий и организаций, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовлению «коктейлей Молотова», а также советы по оказанию сопротивления органам правопорядка»3.
Показателен в этом аспекте следующий пример: в апреле 2022 года Великобритания предоставила Украине около 20 высококвалифицированных специалистов по организации диверсионно-террористической войны «из состава особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service – SAS)». Их цель – «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска»4.
Финансирование диверсии также относится к деятельности пособника и определено законодательно в примечании 1 к ст. 281.1 УК РФ: «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений».
В целом такой пособник дает возможность преступникам обладать, владеть, пользоваться, рас- поряжаться его материальными и (или) иными средствами в соответствии с их противоправными целями. Подчеркнем, что к финансированию может относится и оказание финансовых услуг (банковская, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц5). При этом в зависимости от характера и способов финансирования выделяют такие виды финансового пособника, как финансист (финансовый менеджер) и спонсор (лицо или предприятие, выступающее в качестве финансирующей стороны) [3, с. 72].
Таким образом, обобщая все вышесказанное отметим, что вооружение, подготовка лица к совершению диверсии, а также финансирование диверсии – это формы (способы), однозначно расширяющие классическое толкование пособничества. Об этом ученые подробно рассуждают при анализе других составов преступлений [4, с. 129, 171]. Но такой подход и обоснованно критикуется другими исследователями.
Так, Д.В. Молчанов акцентирует внимание на закрытости перечня действий, образующих пособничество, в связи с чем, ряд схожих с ним действий «может не иметь под собой вообще никакой уголовно-правовой базы» [7, с. 99]. Такую же позицию отстаивает и А.А. Илиджев, который прямо указывает на то, что «если перечень пособнических действий изложен в законе исчерпывающим образом, то все, что находится за пределами нормативного регулирования, пособничеством признаваться не должно» [5, с. 116].
Завершая дискуссию по данному вопросу, считаем, что стоит более широко рассматривать понятие пособничества в совершении преступлений диверсионной направленности, без привязки к ограниченному перечню действий, характеризующих пособника преступления по ч. 5 ст. 33 УК РФ. Но вместе с тем, логично было бы совокупность способов, отнесенных нами к специальным видам пособничества («вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии») перенести из ч. 1 в ч. 3 ст. 281.1 УК РФ. Тем самым будет выстроена логическая цепочка из альтернативных действий, образующих пособничество в классическом понимании и специальных видов пособничества.
Наконец, содействие диверсионной деятельности предусматривает также триаду организационнораспорядительных действий, направленных на совершение хотя бы одной диверсии (ч. 4 ст. 281.1 УК РФ).
Первым таким действием является организация диверсии. Некоторые ученые относят ее к особой форме подстрекательства [11, с. 66], но мы полагаем, что субъектом в названном случаем будет выступать не подстрекатель, а организатор, что вполне логично исходя из общего законодательного подхода к определению функционала данных соучастников. Полагаем, что главным условием, которое гарантирует юридическую привязку организатора к совершаемому преступлению, выступает то, что его деятельность носит системный, интенсивный и постоянный характер и направлена на то, чтобы была совершена хотя бы одна диверсия. В учебной литературе подчеркивается, что «организатор не принимает личного участия в совершении преступления, его деятельность ограничивается лишь стадией подготовки, процессом которой он руководит» [12, с. 146].
Главное при организации диверсии состоит в совершении таких активных действий, которые сопряжены с созданием благоприятных условий не только для реализации самой диверсии, но и для вовлечения иных лиц в целях ее совершения. В наиболее простом виде к организационным действиям традиционно относятся предоставление денежного вознаграждения и указание на объекты, которые необходимо повредить (уничтожить). Причем в современных условиях все это может происходить без личного визуального контакта организатора и исполнителя посредствам использования мобильной связи и информационно-телекоммуникационных сетей.
Так, ФСБ России задержала жителя Калининградской области, который организовал диверсии в 15 российских регионах по заданию украинских спецслужб. С февраля по март 2023 года задержанный привлек к преступной деятельности жителей 15 регионов России6.
Руководство совершением диверсии – вторая разновидность содействия диверсионной деятельности, закрепленная в ч. 4 ст. 281.1 УК РФ. Отдельные исследователи воспринимают руководство совершением преступления в качестве логического продолжения его организации, поскольку «такая деятельность сопряжена с координаций преступного поведения иных соучастников» [1, с. 198; 8, с. 124], в том числе исполнителей.
Но судебная практика толкует фигуры организатора и руководителя неоднозначно. Так, в одном случае (п. 22.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направ- ленности») действия этих соучастников обозначаются в качестве тождественных, а в другом (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях») – наполнены различным содержанием.
Этимологические слово «организовать» означает «1. Основать, учредить. 2. Подготовить, наладить. 3. Объединить. 4. Упорядочить» [9, с. 392], а «руководить» – «направлять чью-либо деятельность, быть во главе чего-нибудь» [9, с. 597]. Исходя из этого толкования совершенно очевидна разница в указанных действиях; и «организовать» и «руководить» – это не синонимичные понятия. В этой связи мы полагаем, что руководство совершением диверсии является самостоятельной преступной деятельностью, что предполагает юридическое выделение еще одного вида соучастника – руководителя.
Организация финансирования диверсии – это третья разновидность содействия диверсионной деятельности, закрепленная в ч. 4 ст. 281.1 УК РФ. В отличие от финансирования, установленного в качестве содействия диверсии по ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, организация финансирования, полагаем, носит более масштабный характер. Эти действия состоят в создании как правовой, так и организационной основы для непрерывного поступления финансовой и иной материальной поддержки соучастникам преступлений диверсионной направленности [2, с. 4-9]. Например, такие действия могут осуществляться посред-ствам принятия на государственном уровне соответствующих нормативных правовых актов, создающих правовую основу для финансирования диверсий. Либо осуществляться частными лицами посредствам установления на постоянной основе периодических отчислений в доход лиц, занимающихся подстрекательством, содействием, организацией, руководством и совершением преступлений диверсионной направленности.
Полагаем, что зачастую такие лица обладают бóльшим криминогенным потенциалом, поскольку оказывают существенную поддержку организации и осуществлению диверсий, в том числе на территории других государств. Фактически без организации и сопровождения финансирования с их стороны данные преступления могли бы и не совершаться.
Уголовное законодательство в области противодействия преступлениям диверсионной направленности демонстрирует переход к новой, более современной оценке действий соучастников. В целом это соответствует духу времени и существенным повышением общественной опасности любой деятельности, направленной на сложение усилий нескольких лиц по подрыву внутренней экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.
Так, нами проанализированы юридические основания для квалификации таких соучастников преступлений диверсионной направленности, как исполнитель, подстрекатель, пособник, организатор и руководитель. В результате комплексного сопоставительного анализа выявлены основные направления по дальнейшему изменению научного восприятия и практического толкования института соучастия в указанной преступной деятельности с учетом принятых законодательных новелл:
-
• отход моносемантичности юридического понимания подстрекательства и пособничества в пользу объективного расширения правового подхода к оценке таких действий;
-
• выделение в качестве самостоятельных видов соучастников в рассматриваемых преступлениях руководителя и организатора-финансиста;
-
• равнозначная правовая оценка по степени общественной опасности действий всех соучастников преступлений диверсионной направленности, основанная на категоризации данных преступлений в качестве особо опасных.
Список литературы Особенности уголовно-правовой квалификации соучастия в преступлениях диверсионной направленности
- Агапов П.В. Организатор преступления: актуальные проблемы современного законодательства и правоприменительной практики // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы 5-й Международной научно-практической конференции, 24-25 января 2008 года. - М.: Проспект, 2008. - С. 196-200. EDN: UCIMMP
- Агапов П.В. Уголовно-правовое противодействие финансированию экстремистской деятельности и терроризма / П.В. Агапов, И.В. Грудачев // Уголовное право. 2020. № 6 (124). С. 4-9. EDN: QXFOQH
- Андрианова А.О. Некоторые особенности личности и роли субъекта преступления в рамках уголовно-правового противодействия финансированию терроризма // Юрист. 2021. № 3. С. 70-74. EDN: ZXTNHT
- Ершов С.А. Пособничество в Общей и Особенной частях УК РФ: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2014. 226 с. EDN: GXVFAC
- Илиджев А.А. Преступления пособника и их отражение в особенной части уголовного кодекса российской федерации // Человек: преступление и наказание. 2021. № 1. Т. 29. С. 112-122. EDN: SSVIXE