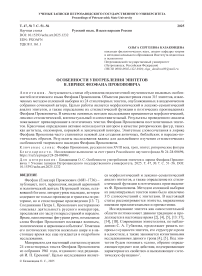Особенности употребления эпитетов в лирике Феофана Прокоповича
Автор: Казаковцева О.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Русский язык. Языки народов России
Статья в выпуске: 7 т.47, 2025 года.
Бесплатный доступ
Актуальность статьи обусловлена недостаточной изученностью языковых особенностей поэтического языка Феофана Прокоповича. Объектом рассмотрения стали 315 эпитетов, извлеченных методом сплошной выборки из 24 стихотворных текстов, опубликованных в академическом собрании сочинений автора. Целью работы является морфологический и лексико-семантический анализ эпитетов, а также определение их стилистической функции в поэтических произведениях Феофана Прокоповича. В качестве основных методов исследования применяются морфологический, лексико-стилистический, контекстуальный и сопоставительный. Результаты проведенного анализа показывают превалирование в поэтических текстах Феофана Прокоповича постпозитивных эпитетов. Красочные определения активно используются автором в качестве риторических фигур, таких как антитеза, оксюморон, корневой и лексический повторы. Эпитетные словосочетания в лирике Феофана Прокопова часто становятся основой для создания античных, библейских и народно-поэтических образов. Результаты исследования важны для дальнейшего изучения стилистических особенностей творческого наследия Феофана Прокоповича.
Феофан Прокопович, русская поэзия XVIII века, троп, эпитет, риторические фигуры
Короткий адрес: https://sciup.org/147252147
IDR: 147252147 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2025.1232
Текст научной статьи Особенности употребления эпитетов в лирике Феофана Прокоповича
Феофан (Елеазар) Прокопович (1681–1736) – публицист, поэт, переводчик, видный церковный и политический деятель Петровской эпохи, оставивший богатое литературное наследие, которое содержит не только проповеди и трактаты по риторике, но и стихотворные произведения [13: 7]. Сподвижник Петра I, Прокопович восторженно описывал деятельность русского императора, прославляя его заслуги перед страной и народом. Яркие, наполненные фигурами речи, похвальные слова Феофан Прокопович посвящал военным, политическим и церковным событиям1. Тематика его поэтических текстов несколько шире и в настоящее время все еще нуждается в подробном исследовании.
Материалом для настоящей статьи послужили 24 стихотворных текста Феофана Прокоповича из собрания 1961 года, изданного под редакцией И. П. Еремина2. Целью исследования являет- ся морфологический и лексико-семантический анализ эпитетов, а также определение их стилистической функции в поэтических произведениях Ф. Прокоповича. Методом сплошной выборки из анализируемых текстов нами было извлечено 315 словосочетаний с эпитетами. В настоящей статье рассматриваются эпитеты, выраженные именами прилагательными и причастиями.
Исследование эпитета как самостоятельной области поэтики имеет давнюю традицию и продолжается в настоящее время [2], [4], [5], [13: 37], [14], [18]. Современная эпитетология, по наблюдению С. А. Губанова, продолжает решать вопросы о сущности эпитета, его структуре и роли в идиостиле, а также занимается когнитивными исследованиями данного тропа [4], [5]. Под эпитетом будем понимать «слово, образно определяющее предмет или действие, подчеркивающее характерное их свойство» и выполняющее «эстетическую функцию»3.
Примечательно, что в своем труде «Об искусстве риторическом десять книг» Феофан Прокопович хоть и не рассматривает эпитет в качестве отдельной фигуры речи, однако сам термин им неоднократно используется при определении других риторических фигур:
«Диэреза, или расчленение, есть привлекательная фигура, когда дается перечисление многих одинаковых или разнородных предметов так, что каждому придается свой признак, т. е. глагол, или эпитет, или что-либо другое» [22: 254]; «Оксиморон – почти то же самое, что фигура коабитации, когда объединяются некоторые противоречащие друг другу или противоположные понятия, например, когда предмету придается контрастный эпитет» [22: 257].
Употребление эпитета находим также в рассуждениях Прокоповича «Об эпидейктическом (парадном) или цветистом роде красноречия», где автор рассуждает о способах нахождения остроумных выражений:
«Обычно к предметам прибавляют с некоторым скрытым смыслом такие глаголы, эпитеты или наречия, которые в обыденной жизни к ним совершенно не подходят…»; «не менее изящным представляется [остроумное выражение], когда один глагол, наречие или эпитет относится к двум самым различным предметам» [22: 411].
АНАЛИЗ ЭПИТЕТОВ В ЛИРИКЕ Ф. ПРОКОПОВИЧА
Основной формой выражения эпитетов в поэтических текстах Феофана Прокоповича являются имена прилагательные. Кроме полной формы находим и распространенные в языке XVIII века [12] усеченные прилагательные, количество которых составляет 8 % от общего числа эпитетов: дивна гордость (210) 4 , в силны руки (214), милость прещедра (216) и др.
Красочные определения превалируют в постпозиции: 57 % постпозитивных эпитетов (враг жестокий (219), вести торжественной (209)), 43 % -препозитивных (малоразсуднаго сердца (214), печалный голод (223), лютое время (212)). Вероятно, на выбор постпозитивного эпитета Феофаном Прокоповичем не могло не повлиять знание латинского и польского языков, которыми он прекрасно владел, а также характер созданных им текстов. Как отмечает И. И. Ковтунова, в памятниках первой трети XVIII века «постпозиция качественных прилагательных была в арсенале тех средств, которые привлекались при изложении важных, торжественных или вообще возвышенных тем» [10: 71]. Для сравнения, в любовной лирике А. П. Сумарокова, не затрагивающей «высокие» темы, эпи-тетные прилагательные, напротив, располагались преимущественно перед определяемым словом (80 % препозиции) [9: 29]. А. В. Рожкова, анализируя эпитеты в поэзии А. К. Тредиаковского, отмечает, что «основным местом эпитета по отношению к главному слову в словосочетании является контактная пре- и постпозиция», но количественных данных исследователь не приводит [21]. Функционирование эпитетов в поэтических произведениях XVIII века не раз привлекало внимание ученых [6], [11], [15], [17], [20], [21], [23] и др., однако расположение компонентов эпитетного словосочетания не становилось предметом специального изучения, что указывает на актуальность и перспективность исследования данного вопроса.
Эпифраза (употребляемый нами вслед за С. А. Губановым термин, обозначающий сочетание эпитета и определяемого слова [3: 51]) в поэтических текстах Прокоповича состоит в 95 % случаев из одного эпитета при определяемом слове: от словес мятежных (225), сердце трепетное (224). Наличие двух красочных определений при определяемом слове в лирике Феофана Прокоповича редко (5 % подобных сочетаний от общего числа эпитетов): златый орган рифмотворческий (209), всероссийский вертоград широкий (219), век долгий и пространный (225). Возможно, в таком выборе структурной организации эпитетных словосочетаний находим отражение суждений Прокоповича о намеренном избегании «излишних словесных прикрас»: «мысли же не должны быть раздуты многословием…» [16: 109].
В поэзии Феофана Прокоповича обнаруживаем также небольшое количество прилагательных (1 % от общего числа эпитетов), употребленных в превосходной степени или с приставкой пре -для выражения наивысшей степени качества: множайшая луча (209), лице краснейшее (209), преславном деле (213), огонь превеликий (215).
В поэтических текстах Прокоповича обращает на себя внимание использование церковнославянской лексики в составе эпитетного словосочетания: крест златый (214), род благоверный (209). По мнению Н. В. Патроевой, «в “Епиникионе” с помощью высоких эпитетов победа русского оружия над шведским изображается как одоление чужой веры, неправедного воинства, свержение бесовства и ереси» [16: 112]. Возвышенный характер повествования церковнославянизмы придают не только победной песне «Епиникион», но и переложениям псалмов: нощный вран (225), страж оружный (225).
Любопытен пример использования Прокоповичем церковнославянизма рогатый (пророче ро-гатий (216)) в послании «Феофан архиепископ Новгородский к автору сатиры», который не раз становился предметом изучения исследователей [1: 17–43]. В данном сочетании, по мнению уче- ных, прилагательное используется в значении ‘сильный, имеющий власть’5. Образ рога в метафорическом смысле также встречается в приветственном канте, адресованном Анне Иоанновне: да вознесет бог / силы твоея рог (218).
Интересен пример корневого повтора, используемого для акцентуации признака, в стихотворении на случай приезда в 1733 году императрицы Анны Иоанновны в загородный дом Феофана Прокоповича :
Но стала быть деревня велика и славна, когда прибыл дражайший гость, Анна державна. Драгая ж то честь месту, щастие наше драго видеть очи светлыя гостя таковаго (220).
Таким образом, церковнославянская лексика находит широкое употребление в эпитетных сочетаниях Прокоповича вне зависимости от стихотворного жанра и активно используется автором при создании риторических приемов, таких как антитеза и лексический повтор.
Насколько живо Феофан прославлял Петра I в произведениях, настолько же ярко он рисовал образы врагов. Так, в «Епиникионе» при описании вражеской силы используются мифологические образы змеи и ехидны, положенные в основу метафорических эпитетов: змѣнническим полчищем (209), рука змЬннича (210), змЪнничия силы (213), о племя ехиднино! (210). Как и в панегирических текстах Прокоповича (но значительно реже), враг предстает в образе льва ( лев свирѣпый (225)) как символа шведских противников императора. По замечанию О. Л. Довгий, бестиарная метафора – «любимый риторический инструмент Прокоповича» [7: 7]. Используемые для устрашения данные метафорические эпитеты показывают силу российского императора, его незыблемый характер, отвагу. Одержать победу над таким врагом может помочь только всевышний (по наблюдениям О. Л. Довгий, «всё, чего достиг Петр, было “по смотрению Божию”» [8: 107]), поэтому Бог изображается при помощи высоких эпитетов: всесильный (209), всемогущий (209), непостижимый (210).
Не только мифологические образы легли в основу риторических фигур, употребляемых Прокоповичем. Вслед за барочной традицией автор при характеристике российского императора употребляет имя представителя римского пантеона - Марса: рускаго Марса (214). Также данный теоним употребляется и в образном обозначении битвы [19: 16]: да страшный там Марс жестокий / грим^л там на весь пляц широкий (215), всю нощь там Марс шел дикий (215). Данные перифрастические выражения находим в «Епиникионе» и стихотворении
«За могилою рябою», описывающем кровопролитную битву 1711 года в русско-турецкой войне.
Эпитеты у Феофана Прокоповича служат целям стилевого и жанрового формирования [16: 113]. В элегиях и песнях автор прибегает к использованию народно-поэтических образов, приближая стихотворения к «складу народных песен»6, например в стихотворении « За могилою Рябою... », созданном во время Прутского похода, участником которого был сам Феофан7: дней красных (216), небес ясных (216). Употребление фольклорных эпитетов находим в канте «Прочь уступай, прочь»: Ты наш ясный св^т / Ты и красный цв^т (218).
Античные и библейские образы «создают диалог многоязычия» [16: 111] в текстах Прокоповича. Палитру интертекстуальных перекличек формирует и летописная традиция. Так, эпифраза лютая брань (213) «отсылает нас к формульным контекстам повествования о воинских подвигах русичей» [16: 111–112]. Наблюдаем, что употребление данного эпитета в поэтических текстах Прокоповича довольно широко и не ограничивается лексической сочетаемостью со словом брань : супостат лютый (209), лютаго фараона (210), во лютое время (212), род лютый (212), зло люто (225), в лютой жизни (226), падеж лютый (226).
Как правило, в поэтических текстах Прокоповича в состав эпифразы входит простой эпитет. Сложные эпитеты хоть и составляют 9 % от общего числа красочных определений, однако употребление их обнаруживаем практически в каждом стихотворном тексте. В первой части сложных эпитетов находим как примету старославянизмов корни все- ( боже всесильный (209), бог всемогущий (209)), благ- ( род благоверный (209), благополучными. обЪты (210)), мал- ( с ма-лоразсуднаго сердца (214), к рабу малодушному (224)), суе- ( мир суестрастный (220)), бог- (Селий богомерзкий (224). Интересен употребляемый в переносном значении ‘жестокий’, ‘свире-пый’8 сложный эпитет с корнем звер - ( мучитель звѣровидный (226)), отсылающий нас к бестиар-ной метафоре.
Помимо распространенных в литературе сложных эпитетов Прокопович использует и оригинальные: скороногий страх (212-213), ловец злонадежный (224), дефиниции которых отсутствуют в «Словаре русского языка XVIII века»9 и «Словаре Академии Российской»10, а также в Национальном корпусе русского языка11. По замечанию Н. В. Патроевой, подобные лексемы «заслуживают право называться окказиональными» и требуют подробного изучения [16: 113].
Эпитетные словосочетания активно используются Феофаном Прокоповичем в качестве рито- рических приемов. Так, красочные определения применяются при антитезе: противопоставление соратников царя, находящихся под Божьей защитой, и врагов, сподвигаемых бесом: в полках же православных - племя ехидно (210); противопоставление воцарения Анны Иоанновны и господства верховников: Солнце Анна возсияла, / Светлый день нам даровала (218). Аналогичное сравнение прихода к власти императрицы со светом находим и в стихотворениях А. П. Сумарокова: «Подсолнечная осветилась, /И тьма от града отвратилась: / Явился златозарный день: / Екатерина ... /Сняла сРоссш бедства тень (IX, 1)» [11: 108].
Употребление эпитетов при построении противопоставления находим в стихотворении «На приход ея императорского величия Анны Иоанновны, когда нас, в приморской мызкѣ нашей, посѣтить изволила», в котором подчеркивается становление неприметного места столь значимым после посещения императрицы:
Малое се жилище, и жители мали хотя б и с хозяином к оценке предстали, Но стала быть деревня велика и славна, когда прибыл дражайший гость, Анна державна (220).
Эпитетные словосочетания активно используются Феофаном Прокоповичем при лексическом и корневом повторе, при помощи которого нагнетается страх, обозначенный эпитетами (страшное блистание, страшный и великий / Град падает железный (212)), и подчеркивается описываемый признак (малое се жилище, и жители мали (220), Где Петрополю вредил проезд водный, / плодоносныя судна пожирая, / Там цар ским делом стал канал всеплодный, / принося ползы, а вред отвращая (219)). Также корневой повтор используется в создании оксюморона: самый страх нестрашный (226).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе проведенного анализа эпитетов в поэтических текстах Феофана Прокоповича можем заключить, что основной формой выражения эпитета является имя прилагательное. Эпифраза, как правило, состоит из одного эпитета при определяемом слове. Нередко автор прибегает к использованию церковнославянской лексики в составе эпитетного словосочетания.
Красочные определения используются Прокоповичем при создании таких риторических приемов, как антитеза, повтор и оксюморон. Среди особенностей употребления данного тропа находим отражение риторических воззрений Прокоповича, изложенных им в трактате «Об искусстве риторическом десять книг»: обилие эпитетов в песнях, элегиях и посланиях и снижение их количества в эпиграммах объясняем следованием автора «умеренному использованию декоративных излишеств для “средних” жанров и еще более умеренному употреблению фигур в “низком” стиле» [22: 74–75].
Эпитет, являясь одной из украшающих фигур речи, активно применяется в лирике Феофана Прокоповича, участвуя в создании библейских, античных и народно-поэтических образов, которые автор умело использует и соединяет между собой при описании исторических сюжетов, а также событий личной биографии.