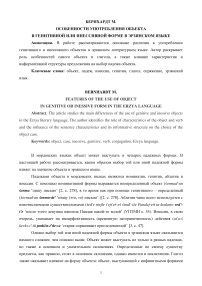Особенности употребления объекта в генитивной или инессивной форме в эрзянском языке
Бесплатный доступ
В работе рассматриваются основные различия в употреблении генитивного и инессивного объектов в эрзянском литературном языке. Автор раскрывает роль особенностей самого объекта и глагола, а также влияние характеристик и информативной структуры предложения на выбор падежа объекта.
Генитив, глагол, инессив, объект, падеж, спряжение, эрзянский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147249225
IDR: 147249225 | УДК: 81''36:811.511.152.1
Текст научной статьи Особенности употребления объекта в генитивной или инессивной форме в эрзянском языке
В мордовских языках объект может выступать в четырех падежных формах. В настоящей работе рассматривается, каким образом выбор той или иной падежной формы влияет на значение объекта в эрзянском языке.
Падежами объекта в мордовских языках являются номинатив, генитив, аблатив и инессив. С помощью номинативной формы выражается неопределенный объект ( sormad-an sorma ‘пишу письмо’ [2, c. 278], в то время как при помощи генитивного - определенный ( sormad-an sorma-nt' ‘пишу (это, то) письмо’ ([2, с. 278]. Аблатив чаще всего используется с неисчисляемыми существительными ( sed'e mejle t'ejt'er-es simd’-ize Pandaj-en ta-kodamo ved'-t'e ‘после этого девушка напоила Пандая какой-то водой’ (УПТМН с. 55). Инессив, в свою очередь, указывает на имперфективность (временную неограниченность) действия ( at’a-s kevks-t’-ni panica-t'ne-se ‘старик спрашивает преследователей’ [3, с. 47].
Однако выбор той или иной падежной формы объекта в эрзянском языке оказывается намного сложнее, чем описано выше. Объект может выступать не только в разных падежах, но также в основном и указательном склонениях. Определенные по своему существу предметы, как правило, стоят в основном склонении, однако имеются и исключения. Глагол также оказывает влияние на форму объекта: объект, выступающий с инфинитными формами несмотря на свою определенность, как правило, стоит в генитиве основного склонения (mon a karm-an marto-t kudo-n t'eje-me, monen kudo a erav-i ‘я не буду с тобой дом строить, мне дом не нужен’ [3, с. 21]. Кроме того, мордовским языкам присуще объектное спряжение глагола, с помощью которого можно указать на число и лицо объекта sajsamak ‘возьмешь (ты меня)’, sajsamam ‘возьмет (он меня)’. Формы объектного спряжения используются преимущественно с определенным объектом (t'ejt'er-es simd'-ize, and-ize cora-nt' i mer-i t'enze... ‘девушка напоила, накормила парня и говорит ему...’ [3, с. 36].
В работе мы рассматриваем основные различия в использовании генитивного и инессивного объектов в эрзянском литературном языке. Как правило, и генитивные, и инессивные объекты определенные, различия между ними можно проследить лишь на основе контекста. Также мы постараемся найти ответы и на то, каким образом спряжение глагола влияет выбор той или иной падежной формы объекта.
Результаты ранних исследований, посвященных рассмотрению различных падежных форм объекта в разных языках мира, показали, что выбор падежной формы объекта зависит как от особенностей объекта, так и глагола. Кроме того, на данный выбор могут влиять характеристики и информативная структура предложения [4; 6; 8; 9; 10; 7]. Критерии выбора падежной формы объекта в мордовском языкознании до настоящего времени исследованы мало. В грамматиках и других работах по вопросам синтаксиса даются лишь обобщения об употреблении объекта в той или иной падежной форме [1; 2 и др.].
А. Алхониеми в статье «Zur Kasuskennzeichnung des Objekts im Mordwinischen» (1991) дает полное представление обо всех четырех падежах объекта, однако в настоящей статье он рассматривает падежи объекта лишь на примере одного глагола simems ‘пить’. Автор указывает, что универсальные принципы выбора падежной формы объекта характерны и для эрзя-мордовского языка – данный выбор определяют определенность / неопределенность и полный / неполный охват объекта действием, а также аспектуальность глагола [5].
Материалом для исследования послужили народные сказки и эрзянские фольклорные тексты (ставшие литературными), представленные в книге «Устно-поэтическое творчество мордовского народа». В ходе исследования нами было выявлено 126 случаев употребления инессивного объекта. Генитивный объект встречается также часто, как и инессивный – только из первых 8 сказок мы насчитали их 204.
В рассмотренном материале 66% генитивного объекта выступают в указательном склонении, оставшиеся – в основном, притяжательном склонениях или являются местоименным объектом. Среди инессивных объектов местоименные объекты наиболее распространены, до 71% инессивных объектов составляют местоименные.
Объект, выступающий в указательном склонении, как правило, всегда определенный. Однако, в некоторых случаях бывает сложно объяснить причины использования определенного склонения. Как мы знаем, при помощи указательного склонения говорящий сообщает слушателю известную информацию, тем не менее в рассматриваемом нами материале представлены случаи сообщения новой информации посредством указательного склонения. Интересен факт, что глагол при этом стоит в субъектном спряжении, хотя объектное спряжение в данном контексте более ожидаемо ( t'et'a-tpek sozdine t'ev-ent' maks-s, seks i mor-an ‘отец (твой) очень легкую работу дал, поэтому и пою’ [3, с. 39]. Очевидно, семантика объекта не в полной мере знакома участникам беседы.
Прослеживается тенденция, что в случае употребления инфинитного глагола на выбор падежа объекта влияет также его одушевленность. Лишь определенные и одушевленные объекты при инфинитных формах выступают в генитиве указательного склонения ( tu-s sejant' vesne-me ‘пошел(ла) козу искать’ [3, с. 29], неодушевленные объекты употребляются в основном склонении и в тех случаях, когда объект является определенным ( at'aks-ont' kad-iz kudo-n vano-mo ‘петуха оставили дом стеречь’ [3, с. 10]. Объекты, выступающие с инфинитными формами, в рассматриваемом нами материале единичны, поэтому мы не можем выстроить о них каких-либо выводов.
Объекты, выступающие в инессиве указательного склонения, в рассматриваемом материале встречаются редко - всего 12. Инессивный объект всегда определенный. Инессивные объекты указательного склонения выражаются при помощи послеложной конструкции c послелогом эйсэ ( umok ton van-at t'ese t'e skal-o-nt' ej-se ‘давно ты пасешь здесь эту корову’ [3, с. 40] (за исключением одного найденного примера в форме инессива: at'a-s kevkst-n-i panica-t'ne-se ‘старик спрашивает преследователей’ [3, с. 47]. Глагол, выступающий с инессивным объектом, всегда употребляется в субъектном спряжении.
Если объект по своему существу определенный, определенность в данном случае не выражается при помощи указательного склонения. Имена собственные как в инессиве, так и в генитиве чаще всего выступают в основном склонении ( ne-ize Pustacej-en avarde-ma-do di kevkst'-ize ‘увидел(а) Пустачея плачущим и спросил(а) (его)’ [3, с. 7]. Нами был обнаружен лишь один пример с именем собственным в генитиве указательного склонения ( orol-os sa-ize lang-sto-nzo Sural'a-nt' di jort-ize ‘орел взял Суралю со спины (своей) и выбросил’ [3, с. 51]. Сложно назвать причину употребления имен собственных в указательном склонении в некоторых случаях.
Также некоторые местоимения могут выступать в основном склонении. В исследуемом материале имеется местоимение весеме ‘все’ - неопределенное местоимение, выступающее в генитиве основного склонения (son veseme-n pal-inze, ezize pala ansak viska sazor-onzo ‘он(а) всех поцеловал(а), не поцеловал(а) лишь младшую сестру’ [3, с. 42]. Данное местоимение с семантической точки зрения является определенным, поэтому нет необходимости использовать его в указательном склонении. Глагол, выступающий с данным местоимением, стоит в объектном спряжении. Также порядковые числительные в безличных предложениях выступают в генитиве основного склонения (vejke-s omboce-h cumondi, omboce-s - kolmoce-n ‘один второго обвиняет, второй - третьего’ [3, с. 30]. Интересно, что выступая в функции субъекта, данные порядковые числительные принимают форму номинатива указательного склонения. Нами было также выявлено одно относительное местоимение в форме инессива основного склонения (si-ca volsebnik-ent' sin vese volsebnik-t' jalga-zo mer-i, kona-h ej-se l'epst'-it'... ‘у прибывающего волшебника, которого прижимают, друг (они все волшебники) говорит^’ [3, с. 80].
Слова, обозначающие части тела и родственные отношения, чаще всего выступают в притяжательном склонении ( nevt'-ik hot've pil'gihe-t' ‘покажи хотя бы одну ножку (твою)’ [3, с. 10]. Также и другие понятия, такие понятия, как, обозначающие одежду и предметы, встречаются в притяжательном склонении. Лишь в 3-ем лице единственного числа можно различить генитивные формы притяжательного склонения от номинативных, но лишь в тех случаях, если речь идет об одном обладаемом. В других лицах генитивные и номинативные формы совпадают. Инессивная форма в притяжательном склонении чаще всего встречается с послелогом эйсэ ( ava-zo kastom lang-so avard'-i di cumond-i cora-nzo ej-se ‘мать (его) на печи плачет и винит сына (своего)’ [3, с. 207]. Также возвратное и взаимное местоимения выступают, как правило, в притяжательном склонении ( son kinen=gak pra-nzo narga-ms a maks-si ‘он никому не даст поиздеваться над собой (букв. не даст голову (свою)’ [3, с. 54].
Значение обладания может выражаться и без притяжательных суффиксов. Объект в таком случае выступает в форме генитива указательного склонения ( veseme-n pal-it', ansak poks sazor-oht' il'akpala ‘всех поцелуй, только старшую сестру (эту, ту) не целуй’ [3, с. 57]. Объект не оформлен притяжательным суффиксом, а выступает в генитиве основного склонения, являясь объектом инфинитной формы.
Местоименные объекты могут принимать как генитивные, так и инессивные формы. Местоименные генитивные объекты нередко могут опускаться, поскольку они могут выражаться формой объектного спряжения глагола. Инессивный местоименный объект чаще всего выступает с послелогом эйсэ, в таком случае местоимение принимает форму генитива (son a mihek ej-se, a tink ej-se=jak a veck-i ‘он ни вас ни нас (тоже) не любит’ [3, с. 273]. Послелог эйсэ нередко может выступать самостоятельно, оформляясь при этом притяжательным суффиксом (mezt' pop-os manc-i ej-se-hek, mezt' sulm-i rauzo paca-so sel'me- nek ej-se ‘почему поп обманывает нас, почему завязывает черным платком глаза (наши)’ [3, с. 313].
Генитивный и инессивный объекты, как правило, являются определенными. Тем не менее, они используются в разных контекстах. Глагол, выступающий с генитивным объектом, чаще всего стоит в объектном спряжении, подобное действие обычно является ограниченным во времени ( kand-ize povaz at'aks-ont' ‘принес(ла) задушенного петуха’ [3, с. 12]. И напротив, инессивный объект, как правило, выступает с глаголом в субъектном спряжении, действие при этом толкуется как незаконченное (jaga-baba-s tonavt-i ej-se-nze ‘баба-яга учит его/ее’). В нашем материале мы насчитали 164 глагола в форме объектного спряжения, из которых лишь 3 глагола выступают с инессивным объектом и 161 глагол - с генитивным объектом. Глаголов в основном склонении - 128, из них 16 выступают с генитивным объектом и 112 - с инессивным.
Глаголы в объектном спряжении большей частью стоят в форме прошедшего времени - 108 глаголов, что составляет 65% всех глаголов, выступающих в объектном спряжении. Данные глаголы обычно выражают действие, законченное на момент речи. Они, главным образом, сообщают о результате, а не о действии. В презенсе они выражают действие, которое полностью завершится, как правило, в будущем.
Среди исследуемого материала было найдено лишь несколько случаев, когда глагол в форме объектного спряжения выражает действие, совершающееся на момент речи ( meks pastuh-ont' pacalkse-d'e a kavana-ksno-sink ‘почему пастуха блинами не угощаете’ [3, с. 30]. В контекстах этих предложений видно, в что в данном случае имеет место быть эмоциональная окраска выражения. В русском языке, с которым мордовские языки контактируют в течение долгих лет, в подобном контексте может употребляться перфектный глагол. В русскоязычных переводах, тем не менее, формам объектного спряжения мордовских языков не всегда соответствует перфектная форма глагола. Однако в русском языке для подчеркивания эмоциональности высказывания нет необходимости всегда использовать перфектный глагол, так же как в эрзянском языке выбор объектного спряжения не является обязательным в подобном контексте.
Глаголы могут выражать длящееся действие, которое завершится на момент речи. В подобной ситуации глагол может выступать и в форме объектного спряжения. В рассматриваемом нами материале в подобных предложениях всегда встречается наречие, которое ограничивает длительность действия, поэтому использование объектного спряжения понятно. (В группу adverbi ‘наречие’ автор объединяет слова, подобные koda ‘как’, kodak ‘как только’, ansak ‘только’) (at'a-s baba-nt' kodakpecka lang-sto tulkad'-si, baba-s zo kunda-s at'a-nt' pracer-s, di pra-st' kavone-st ‘старик старуху как с печки вытолкнет, старуха же схватилась за волосы старика, и упали вдвоем’ [3, с. 27].
Если глагол выступает в субъектном спряжении, определенный объект при нем обычно принимает форму инессива. Генитивный объект с глаголом в субъектном спряжении употребляется редко. Глаголы в субъектном спряжении, как правило, выражают нерезультативное или длящееся действие, которое весьма редко бывает ограничено во времени.
Большая часть глаголов, выступающих в форме субъектного спряжения, употребляется в настоящем времени. В исследуемом материале мы насчитали 107 глаголов в субъектном спряжении настоящего времени, т. е. 85% от всех глаголов в субъектном спряжении. Основная их функция - выражение действия.
В предложениях, в которых глагол употребляется в форме прошедшего времени, глаголы выражают завершенное действие. Однако, основная функция в них - выражение самого действия, а не его результата. В предложениях с инессивным объектом нередко встречаются наречия, которые указывают на длительность, продолжительность или интенсивность действия: jala ‘все еще’, koda ‘как’ ( a skal-os ej-se-st and-i jala ‘а корова все кормит их’ [3, с. 73].
Фреквентативно-континуативные суффиксы (суффиксы многократности и продолжательности) могут изменять помимо семантики глагола и спряжение глагола, а также склонение объекта. В нашей работе мы обнаружили глаголы без фреквентативно-континуативных суффиксов, выступающие в объектном спряжении с генитивным объектом ( kevkst'-iz krisa-nt' , son mer-i. ‘спросили крысу, она говорит...’ [3, с. 56], однако с фреквентативно-континуативными суффиксами в субъектном спряжении, при этом объект, как правило, в инессиве ( at'a-s kevkst'-ni panica-t'ne-se... ‘старик спрашивает преследователей’ [3, с. 41].
В редких случаях точные (англ. punctual ) глаголы в нашем материале выступают с инессивнным объектом в субъектном спряжении. Если глагол стоит в субъектном спряжении, предложение является отрицательным или действие не полностью закончено. В утвердительных предложениях данные глаголы в нашем материале выступают в объектном спряжении с генитивным объектом. Лишь глаголы нолдамс ‘пускать’, кадомс ‘оставлять’, сасамс ‘достигать, догонять’ в отрицательных предложениях выступают в основном склонении с инессивным объектом. Что касается других глаголов, отрицание не влияет на выбор спряжения глагола или падеж объекта.
Объект, выступающий с чувственными глаголами, всегда принимает форму инессива. Данные глаголы выражают состояние, которое не влияет на объект предложения. Кроме того, объект, как правило, является источником состояния, влияющим на субъект. В языках мира объект или субъект подобных глаголов принимает падежные формы отличные от случаев употребления с другими глаголами. В рассматриваемом нами материале глагол вечкемс ‘любить’ всегда выступает с инессивным объектом (son ej-se-t' a veck-i, I'ed'-t'anzat, pulta-tanzat ‘он(а) тебя не любит, застрелит, сожжет’ [3, с. 78].
Итак, нами было выявлено, что на выбор падежной формы объекта в эрзянском языке могут влиять как особенности самого объекта и глагола, так и характеристики и информативная структура предложения.
Список литературы Особенности употребления объекта в генитивной или инессивной форме в эрзянском языке
- Коляденков М. Н. Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Ч. 2. Синтаксис. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1954. - 368 с.
- Коляденков М. Н. Структура простого предложения в мордовских языках. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1959. - 292 с.
- Маскаев А. И., Евсеев В. Я., Кавтаськин Л. С. Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. III, Ч. 2. Эрзянские сказки. - Саранск, 1967.
- Aissen Ju. Differential object marking: Iconicity vs. Economy // Natural Language & Linguistic Theory. - 2002. - № 21/3. - P. 435-483.
- Alhoniemi A. Zur Kasuskennzeichnung des Objekts im Mordwinischen // Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja. - Helsinki. - 1991. - № 3.
- Comrie B. Subjects and direct objects in the Uralic languages: A functional explanation of case-marking systems // Études Finno-ougriennes. - Budapest: Akadémiai kiadó, 1975. -№ 12. - P. 5-17.
- Dalrymple M., Nikolaeva I. Objects and information structure // Cambridge studies in linguistics. - Cambridge, 2011. - № 131.
- Moravcsik E. A. On the case marking of objects // Universals of human language 4. Syntax / ed. Jo. H. Greenberg. - Stanford, California,1978. - P. 249-289.
- Næss Å. What markedness marks: the markedness problem with direct objects // Lingua. -2004. - № 114 (9-10). - P. 1186-1212.
- Onishi M. Non-canonically marked subjects and objects: Parameters and properties // Non-canonical marking of subjects and objects / ed. A. Y. Aikhenvald, R. M. W. Dixon, M. Onishi. - Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001. - P. 1-51.