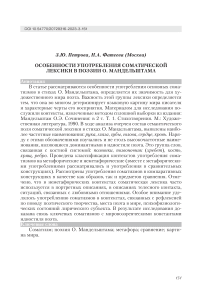Особенности употребления соматической лексики в поэзии О. Мандельштама
Автор: Петрова З.Ю., Фатеева Н.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности употребления основных соматизмов в стихах О. Мандельштама, определяется их значимость для художественного мира поэта. Важность этой группы лексики определяется тем, что она во многом детерминирует языковую картину мира писателя и характерные черты его восприятия. Материалом для исследования послужили контексты, извлеченные методом сплошной выборки из издания: Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1990. В ходе анализа очерчен состав семантического поля соматической лексики в стихах О. Мандельштама, выявлены наиболее частотные наименования: рука, глаза, губы, голова, сердце, кровь. Наряду с этими обозначениями изучались и не столь высокочастотные наименования, являющиеся доминантными в идиостиле поэта. Это группа слов, связанная с костной системой: позвонки, позвоночник (хребет), кость, хрящ, ребро. Проведена классификация контекстов употребления соматизмов на метафорические и неметафорические (вместе с метафорическими употреблениями рассматривались и употребления в сравнительных конструкциях). Рассмотрены употребления соматизмов в компаративных конструкциях в качестве как образов, так и предметов сравнения. Отмечено, что в неметафорических контекстах соматическая лексика часто используется в портретных описаниях, в описаниях телесного контакта, ситуаций, связанных с любовными отношениями. Особое внимание уделялось употреблению соматизмов в контекстах, связанных с рефлексией по поводу поэтического творчества, места поэта в мире, психофизиологических состояний лирического субъекта. В результате исследования доказана связь ключевых соматизмов с мировоззренческими константами идиостиля поэта.
Соматизм, поэзия о. мандельштама, метафора, сравнение, картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/149143531
IDR: 149143531 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-151
Текст научной статьи Особенности употребления соматической лексики в поэзии О. Мандельштама
Somatism; O. Mandelstam’s poetry; metaphor; simile; world image.
Соматизмы, или соматическая лексика, интересны тем, что они в большой степени определяют модель языковой картины мира писателя и особенности его восприятия. Это связано с тем, что процесс восприятия мира и осознание своего места в нем у человека начинается с ощущений, которые возникают благодаря органам чувств и частям тела. Названия частей тела способствуют созданию экспрессии в художественном тексте, особенно когда используются в составе фразеологизмов.
Соматическая лексика лучше изучена в поэзии. В настоящее время подробно изучена лингвосоматика Ф. Тютчева [Сычева 2012], М. Цветаевой [Миняева 2007], Б. Ахмадулиной [Харченко, Плужникова 2015; Плужникова 2017], Б. Пастернака [Фатеева 2020], Л. Аронзона [Фатеева
2022]. Поэзия Мандельштама с этой точки зрения рассматривалась лишь фрагментарно, по отдельным обозначениям частей тела и функций организма: губы [Тарановский 2000], позвонки , хрящ , хребет [Кихней 2019; Меркель 2015], кровь [Тарановский 2000; Марголина 1989], дыхание [Та-рановский 2000].
О роли соматического в художественном творчестве пишет В.Н. Топоров в статье «О “психо-физиологическом” компоненте поэзии Мандельштама»: «“Соматическое” бытие, “душетелесная” жизнь выступает как то основание, которое – при широком подходе – составляет содержание важной, в значительной степени базовой, части поэтических текстов и сам “язык”, это содержание описывающий. Следовательно, биофизическая органика в известной мере определяет, “преформирует” некий существенный пласт духовного творчества, и результаты этого творчества, тексты, хранят в себе отражение этих “органических” движений» [Топоров 1991, 9].
Цель нашей работы – проанализировать все семантическое поле соматической лексики в стихах О. Мандельштама, определить наиболее частотные наименования, выявить обозначения, которые становятся в текстах поэта ключевыми, рассмотреть их связь с мировоззренческими константами его идиостиля. Материалом для исследования послужили контексты, извлеченные методом сплошной выборки из издания [Мандельштам 1990], исключая стихи для детей и шуточные стихи.
Рассмотрим состав этого семантического поля. Основное его наименование – тело, близко к нему по значению слово плоть; остальные слова связаны с ним отношением «целое – часть». Они подразделяются на следующие семантические классы: 1) слова, обозначающие части и области тела: лицо, голова, грудь, рука, плечо, шея, спина, нога; 2) названия, относящиеся к костно-мышечной системе: позвоночник, хребет, позвонок, хрящ, кость, ребро, мышцы; 3) названия внутренних органов: сердце, мозг, железа, жила, вена, аорта, нервы; 4) названия жидкостей: кровь, слезы, пот, желчь; 5) названия, связанные с кожным покровом: кожа, родинка, морщина. С некоторыми из этих обозначений связаны отношением «целое – часть» и синонимическим отношением еще ряд слов. Во-первых, это слово лик, высокий синоним слова лицо, а также обозначения частей лица: глаза (и его синонимы очи, гляделки, обозначения частей глаза: зрачок и его синоним зеница, а также сетчатка, хрусталик, радужная оболочка, глазное яблоко, глазница; слова, тесно семантически связанные со словом глаз, – взор, зрение); веки, ресницы, брови; губы и его синоним уста; рот (и нёбо, горло, гортань, глотка, зубы, десны, язык), ухо и семантически близкое обозначение слух; лоб и его высокий синоним чело, лобная кость; щеки и его синоним ланиты; висок, подбородок; борода, щетина. Кроме того, это наименования голова и его синоним глава, название ее части – темя, тесно семантически связанные со словом голова слово череп и обозначения волосяного покрова головы: волосы, кудри, пряди, челка, колтун, тонзура. Со словом рука связаны отношением «целое – часть» обозначение пальцы и его синоним персты, видовое обозначение мизинец, название части пальца – ноготок, а также названия других частей руки: ладонь, локоть, кисть, кулак. Со словом шея связан его синоним выя, со словом нога – обозначения ее частей: колено, стопа, ступня.
Подсчеты показали, что наиболее частотные соматизмы в стихах О. Мандельштама – рука (45 употреблений), глаза (42 употребления), губы (39 употреблений), голова (34 употребления), сердце (33 употребления), кровь (30 употреблений).
Если помимо обозначения рука учитывать и наименования частей руки, то подкласс соматизмов, связанный с рукой, будет выглядеть еще представительнее: пальцы – 11 употреблений, персты – 2, мизинец – 2, ладонь – 8, локоть – 2, кисть – 2, кулак – 1, итого 73 употребления.
Среди всех употреблений этих слов обращают на себя внимание прежде всего тропеические. Слова руки, пальцы, ладони выступают как образы сравнения компаративных конструкций: «И тысячи зеленых пальцев / Колеблет множество ветвей» (1909), «Архангельский и Воскресенья / Просвечивают, как ладонь » (1916), «В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна, как руки брадобрея» (1933). В последнем контексте надо отметить негативно-оценочное значение всего словосочетания.
Такие наименования могут быть и предметами сравнения компаративных тропов. Так, движение рук уподобляется движению волн, ладонь – раковине: «На перламутровый челнок / Натягивая шелка нити, / О, пальцы гибкие, начните / Очаровательный урок! / Приливы и отливы рук ... / Однообразные движенья... / Ты заклинаешь, без сомненья, / Какой-то солнечный испуг, / Когда широкая ладонь , / Как раковина, пламенея, / То гаснет, к теням тяготея, / То в розовый уйдет огонь!..» (1911). В другом контексте возможность уподобления рук тяжелому неуклюжему предмету отрицается следующей за этим метафорой, характеризующей пальцы как легких, резвых, управляемых коней: «Разве руки мои – кувалды ? / Десять пальцев – мой табунок ! / И вскочил, отряхая фалды, / Мастер Генрих – конек-горбунок» (1931). Эти индивидуально-авторские метафоры образно характеризуют игру и облик пианиста Генриха Нейгауза. Как отмечают Вяч.Вс. Иванов, «особенность двух строк, содержащих эти два предложения, состоит в том, что в них вставлена как бы непроизнесенная прямая речь Нейгауза, характеризующая его состояние и уверенность в себе и в своих главных орудиях – руках и пальцах в момент, когда игра кончается» [Иванов].
Из других употреблений соматизмов семантического подкласса «Рука» можно выделить контексты с референцией к различным ситуациям, в которых участвуют руки и их части. Прежде всего это ситуация телесного контакта, в том числе предполагаемого: « Руку приблизив к устам, / Не отнимай ее прочь» (1909), «Возьми на радость из моих ладоней / Немного солнца и немного меда, / Как нам велели пчелы Персефоны» (1920). Телесный контакт может быть перенесен в метафорическую плоскость: «Два сонных яблока у века-властелина / И глиняный прекрасный рот, / Но к млеющей руке стареющего сына / Он, умирая, припадет» (1924, 1937).
Могут быть также ситуации, связанные с любовными отношениями: «Целую локоть загорелый / И лба кусочек восковой. / Я знаю – он остался белый / Под смуглой прядью золотой. / Целую кисть, где от брасле- та / Еще белеет полоса. / Тавриды пламенное лето / Творит такие чудеса» (1916, предположительно, обращено к М. Цветаевой), «За то, что я руки твои не сумел удержать, / За то, что я предал соленые нежные губы, / Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. / Как я ненавижу пахучие древние срубы!» (1920, обращено к О.Н. Арбениной-Гильдебрандт).
Еще одна функция этих наименований – создание портрета персонажа или автопортрета, в котором руки , пальцы и пр. участвуют вместе с другими соматизмами: «Нежнее нежного / Лицо твое, / Белее белого / Твоя рука , / От мира целого / Ты далека, / И все твое – / От неизбежного. / От неизбежного / Твоя печаль, / И пальцы рук / Неостывающих, / И тихий звук / Неунывающих / Речей, / И даль / Твоих очей» (1909).
У Мандельштама релевантен образ пальцев: они могут быть тонкие, тончайшие, худые, гибкие. В любом случае это деталь портрета, обращающая на себя внимание: «Немного красного вина, / Немного солнечного мая – / И, тоненький бисквит ломая, / Тончайших пальцев белизна» (1909), «И пальцы тонкие дрожат, / К таким же, как они, прижаты» (1909), «На перламутровый челнок / Натягивая шелка нити, / О, пальцы гибкие, начните / Очаровательный урок!» (1911).
Пальцы связаны и с игрой на фортепиано: «В пальцах тепло не мгновенное, / Сила лежит фортепьянная» (1937).
Могут быть и негативные ассоциации, связанные с пальцами, например, в описании Сталина: «Его толстые пальцы , как черви, жирны, / И слова, как пудовые гири, верны, / Тараканьи смеются глазища / И сияют его голенища» (1933). Негативная оценка усиливается сравнением жирны, как черви .
Соматизм глаза в поэзии Мандельштама также имеет высокую частоту – 42, частоты его коррелятов распределяются следующим образом: очи 13, гляделки 1, глазница 2, зрачок 8, зеница 1, сетчатка 3, хрусталик 1 , радужная оболочка 1, глазное яблоко 2; взор 11, зренье 2. Итого 87 употреблений. Глаза у Мандельштама – единственная часть тела, которая присуща и человеку, и животным. С одной стороны, глаза встречаются в изображении насекомых, птиц, зверей: «Мы прошли разряды насекомых / С наливными рюмочками глаз » (1932), «Мой щегол, я голову закину – / Поглядим на мир вдвоем: / Зимний день, колючий, как мякина, / Так ли жестк в зрачке твоем?» (1936). С другой стороны, образы глаз насекомых, птиц и зверей (глаза, зрачок, хрусталик, зренье) характеризуют в компаративных конструкциях человека: «Наклони свою шею, безбожница / С золотыми глазами козы» (1937), «Вооруженный зреньем узких ос, / Сосущих ось земную, ось земную, / Я чую всё, с чем свидеться пришлось, / И вспоминаю наизусть и всуе» (1937) и даже оптическую технику: «Не разбирайся, щелкай, милый кодак, / Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы, / А не стекляшка!» (1931).
Мандельштам употребляет термины, относящиеся к строению глаза: часто встречающийся в поэтическом языке зрачок и редкие сетчатка, хрусталик, радужная оболочка, яблоко (глазное). Согласно данным Национального корпуса русского языка [НКРЯ], радужная оболочка – индивидуальное словоупотребление Мандельштама, слово сетчатка – в поэзии до Мандельштама не встречалось, термин хрусталик – встречался, но очень редко, глазное яблоко – один пример (Г. Державин) и единичные контексты с 1930-х гг.
Эти термины употребляются и в контекстах, описывающих непосредственные зрительные впечатления: «Набухла солнцем глаз моих сетчатка » (1921–1929), «Больше светотени – / Еще, еще! Сетчатка голодна!» (1931), но чаще – в метафорических контекстах. Так, радужная оболочка встречается в переводе стихотворения Петрарки «Как соловей, сиротствующий, славит…»: «О, радужная оболочка страха! / Эфир очей, глядевших в глубь эфира, / Взяла земля в слепую люльку праха». О метафорической замене в этом контексте пишет Томас Венцлова: «В девятой строке обмануто читательское ожидание (вместо привычного радужная оболочка глаза дано сюрреалистическое сочетание радужная оболочка страха)» [Венцлова 2012, 136]. (Глазные) яблоки – одна из телесных характеристик умирающего века: «Два сонных яблока у века-властелина / И глиняный прекрасный рот, / Но к млеющей руке стареющего сына / Он, умирая, припадет» (1924). Ирина Сурат отмечает, помимо основного олицетворяющего значения, и другие ассоциации слова яблоко в этом контексте: «“Два сонных яблока” – это и реализация языковой метафоры “глазное яблоко”, и развитие заложенной в этом образе темы времени, остановленного или идущего вспять <…> Но главная семантическая составляющая образа яблок в этих стихах – это тема власти земной и духовной, тема “державного яблока” как атрибута власти» [Сурат 2010].
В поэзии Мандельштама также представлены контексты олицетворения со словами семантического подкласса «глаза»: век – зрачки , печаль – глаза , чернозем – глазастый : «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?» (1922), «Невыразимая печаль / Открыла два огромных глаза » (1909), «Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст ... / Черноречивое молчание в работе» (1935).
Глаза – важная часть поэтического портрета, например портрета А. Белого: «Голубые глаза и горячая лобная кость / – Мировая манила тебя молодящая злость» (1934), М. Петровых: «Мастерица виноватых взоров » (1937), И. Сталина: «Могучие глаза решительно добры» (1937).
Встречаются и стилистические отмеченные синонимы слова глаза – и высокое очи : «Даль Твоих очей » (1909), и сниженное гляделки в портрете Чарли Чаплина: «Две подметки, / заячья губа, / Две гляделки , / полные чернил / И прекрасных / удивленных сил» (1937).
Глаз, око, зеница используются как предметы сравнения в компаративных конструкциях (достаточно традиционные употребления): глаза – свечи: «К чему печальные речи, / Когда глаза / Горят, как свечи, / Среди белого дня?» (1909), око – омут: «Омут ока удивленный, – / Кинь его вдогонку мне» (1937), очи – эфир: «Эфир очей, глядевших в глубь эфира» (1933–1934), варианты традиционной образной параллели «глаза – птицы»: «Где первородство? где счастливая повадка? / Где плавкий ястребок на самом дне очей?» (1934), «Были очи острее точимой косы – / По зегзице в зенице и по капле росы» (1937).
Следующая частотная группа слов связана с губами, частота их следующая: губы 39, уста 8, рот 16, итого 63 употребления. Основная особенность употребления соматизма губы в стихах Мандельштама – это наделение его символическим смыслом «поэтическое творчество». Этот смысл по-разному воплощается в различных контекстах.
Главный смысл этого образа заключается в том, что губы – своего рода инструмент поэта: «С черствых лестниц, с площадей / С угловатыми дворцами / Круг Флоренции своей / Алигьери пел мощней / Утомленными губами » (1937). В то же время губы и уста ( рот ) участвуют в рефлексии о состоянии поэта, предшествующем появлению стиха, «творческого молчания», «шепота», еще не воплощенного в звук и слово: «Она еще не родилась, / Она и музыка и слово, / И потому всего живого / Ненарушаемая связь. <…> Да обретут мои уста / Первоначальную немоту, / Как кристаллическую ноту, / Что от рождения чиста!» (1910, 1935); «Быть может, прежде губ уже родился шопот» (1933, 1934). К. Тарановский пишет о последнем контексте: «“Губы” в этом стихотворении – вне всякого сомнения – “поэтические губы” (любимый образ в поэзии Мандельштама), а шепот, который был рожден еще прежде губ, не что иное, как сама поэзия» [Тарановский 2000, 14].
Сам процесс поэтического творчества воплощен в шевеленье губ, шевелящихся губах (ср. «Образ шевелящихся губ у Мандельштама – излюбленная метафора поэтического творчества» [Тарановский 2000, 192]). При этом в контекстах употребления этих словосочетаний актуализируется ощущение уязвимости, противостояния разрушительным силам – и природным, и социальным, а также предчувствие смерти: «И меня срезает время, / Как скосило твой каблук. / <…> Видно, даром не проходит / Шевеленье этих губ , / И вершина колобродит, / Обреченная на сруб» (1922), «Лишив меня морей, разбега и разлета / И дав стопе упор насильственной земли, / Чего добились вы? Блестящего расчета: / Губ шевелящихся отнять вы не могли» (1935). Однако у Мандельштама присутствует и сознание того, что шевеление губ все же происходит несмотря на ни что, и даже после смерти: «Да, я лежу в земле, губами шевеля » (1935). Бессмертие поэта выражает и словосочетание бессмертный рот : «Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот / В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет» (1933).
Губы как символ поэтического творчества появляются в гиперболическом контексте осознания и провозглашения поэтом силы своего слова: «Я больше не ребенок! Ты, могила, / Не смей учить горбатого – молчи! / Я говорю за всех с такою силой, / Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы / Потрескались, как розовая глина» (1931). Об этом мандельштамовском стихотворении пишет Н. Струве: «…парадоксальным образом говорит он за всех, молчащих от страха или от неведения, раздавленных, разучившихся говорить, за живых как за мертвых, как раз тогда, когда сам он – один против всех» [Струве 1988, 46].
Среди остальных контекстов, включающих соматизмы губы , уста , рот , надо отметить следующие:
– портретные описания: «вычурный чубук у ядовитых губ , / Сказавших правду в скорбном мире» (1917), «В тебе все дразнит, все поет, / Как итальянская рулада. / И маленький вишневый рот / Сухого просит винограда» (1920);
– контексты, представляющие отношения с женщиной: «Я наравне с другими / Хочу тебе служить, / От ревности сухими / Губами ворожить. / Не утоляет слово / Мне пересохших уст , / И без тебя мне снова / Дремучий воздух пуст <…> / И, словно преступленье, / Меня к тебе влечет / Искусанный в смятеньи / Вишневый нежный рот » (1920);
– в тропах как предмет сравнения: губ малина : «Как дрожала губ малина , / Как поила чаем сына, / Говорила наугад, / Ни к чему и невпопад» (1925), улитки губ людских : «Не у меня, не у тебя – у них / Вся сила окончаний родовых: / Их воздухом поющ тростник и скважист, / И с благодарностью улитки губ людских / Потянут на себя их дышащую тяжесть» (1936) и др.
Как отмечалось выше, высокой частотностью характеризуются со-матизмы голова (34 употребления) и его синоним глава (2), название ее части – темя (3), тесно семантически связанные со словом голова слово череп (3), итого 42 употребления.
Обращают на себя внимание случаи, когда эти соматизмы используются поэтом в метафорах и сравнениях. В таких контекстах используется слово темя , обозначающее наиболее чувствительную, незащищенную часть головы, которая реагирует на внешние воздействия, ср. «Холодок щекочет темя , / И нельзя признаться вдруг, – / И меня срезает время, / Как скосило твой каблук» (1922). Темя употребляется в качестве персони-фикатора в олицетворяющих контекстах: «Словно нежный хрящ ребенка / Век младенческий земли – / Снова в жертву, как ягненка, / Темя жизни принесли» (1922) (в этом контексте темя дополнительно ассоциируется с младенческим родничком), «Кто время целовал в измученное темя , – / С сыновней нежностью потом / Он будет вспоминать, как спать ложилось время / В сугроб пшеничный за окном» (1924, 1937).
Образ черепа, как отмечают А. Литвина и Ф. Успенский, рассматривая «Стихи о неизвестном солдате», «один из самых важных и, наверное, самых загадочных, он оснащен целой гроздью метафор и поэтических характеристик, требующих распутывания и объяснения, иногда доходящего до уровня дешифровки» [Литвина, Успенский 2011, 70]. Череп у Мандельштама одновременно ассоциируется с вместилищем мысли и со смертью и войной. Подтверждение этому мы находим в «Стихах о неизвестном солдате»: «Для того ль должен череп развиться / Во весь лоб – от виска до виска, – / Чтоб в его дорогие глазницы / Не могли не вливаться войска?» (1937). По словам Вяч.Вс. Иванова, «Вторая половина стихотворения в большой степени строится на метафоре черепа как символа одновременно торжества человеческого духа и разума и войны (войск), которая входит в глазницы (что продолжает ту же тему света смертоносного оружия в глазах поэта). Представляется несомненным, что сама словесная форма – слово череп в значении “голова” – восходит к Хлебникову, в чьих стихах (и прозе) тема борьбы с будущими войнами была особенно отчетливой…» [Иванов 1990, 361–362].
С идеями Хлебникова, скорее всего, связан и контекст, в котором череп выступает как образ сравнения, а предметом сравнения является мир: «Размотавший на два завещанья / Слабовольных имуществ клубок / И в прощанье отдав, в верещанье / Мир, который как череп глубок» (1937). Ж.-К. Ланн отмечает специальное внимание Хлебникова «к тем частям тела, что содержат человеческий разум (голова, череп, мозг)», так как «они становятся своеобразными символами его поисков универсального смысла и возможности расширения границ человеческого интеллекта» [Ланн 2005, 325].
В неметафорических употреблениях голова иногда употребляется в портретных описаниях, например, в автопортрете: «В поднятьи головы крылатый / Намек – но мешковат сюртук» (1913 <1914?>), в изображении характерного жеста: «Мой щегол, я голову закину – / Поглядим на мир вдвоем» (1936), в портрете Чаплина: «Оловянный ужас на лице, / Голова не держится совсем. / Ходит сажа, вакса семенит» (1937).
Голова также задействована в изображении психофизических состояний, ощущений: «И гораздо глубже бреда / Воспаленной головы / Звезды, трезвая беседа, / Ветер западный с Невы» (1913), «Так я плыл по реке с занавеской в окне, / С занавеской в окне, с головою в огне» (1935), «Железной нежностью хмелеет голова » (1937), в частности, в описании состояния в момент творчества: «Пою, когда гортань – сыра, душа – суха, / И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье <…> Уже не я пою – поет мое дыханье – И в горных ножнах слух, и голова глуха…» (1937).
Следующий соматизм, обращающий на себя внимание с точки зрения частотности в стихах Мандельштама – сердце (33 употребления). Поэт определяет сердце не только физиологически, как часть человеческого организма, но и как орган, который откликается на все проявления внешнего мира и является средоточием самосознания лирического субъекта: «Но разве сердце – лишь испуганное мясо? / Я сердцем виноват – и сердцевины часть / До бесконечности расширенного часа» (1937).
Сердце в поэзии Мандельштама может использоваться в олицетворении: «И только небо сердцем голубым / Усыновляет моря белый дым» (1910), «Этот воздух пусть будет свидетелем, / Дальнобойное сердце его» (1937).
И наоборот, сердцу приписываются человеческие характеристики, действия и состояния: «После полуночи сердце ворует / Прямо из рук запрещенную тишь» (1931), «По милости надменных обольщений / Ночует сердце в склепе скромной ночи, / К земле бескостной жмется. Средоточий / Знакомых ищет, сладостных сплетений» (1934).
Выделяются также сочетания слова сердце с предикатами тяжелеть, отяжелеть . Как представляется, в этих контекстах мы имеем дело с индивидуально-авторским осмыслением этих сочетаний: «В нас вошла слепая радость – / И сердца отяжелели » (1910), «А сердце – отчего так медленно оно / И так упорно тяжелеет ? / То – всею тяжестью оно идет ко дну, / Соскучившись по милом иле, / То – как соломинка, минуя глубину, / Наверх всплывает без усилий» (1910).
Следующей по степени распространенности у Мандельштама является кровь . Кровь у поэта связана с жизнью и жизненной силой. Можно выделить контексты, в которых поэт говорит об изменениях крови в связи со своим психологическим состоянием: «Тебя не назову я / Ни радость, ни любовь. / На дикую, чужую / Мне подменили кровь » (1920) или постепенным старением: «А ведь раньше лучше было, / И, пожалуй, не сравнишь, / Как ты прежде шелестила, / Кровь , как нынче шелестишь» (1922), «Век. Известковый слой в крови больного сына / Твердеет» (1924). Витальное начало крови связано с тем, что она может «склеить двух столетий позвонки»: «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?» (1922). Жизнь ассоциируется у поэта с кровообращением: «Рассказывай еще – тебя нам слишком мало, / Покуда в жилах кровь , в ушах покуда шум» (1932). Творческое же начало (пенье) он связывает с «кипением крови»: «Душу от внешних условий / Освободить я умею: / Пенье – кипение крови / Слышу – и быстро хмелею (1911).
К. Тарановский отмечает и другие смыслы у слова кровь в идиостиле поэта: «…есть у Мандельштама и другая кровь, кровь коллективная, кровь, на которой стоит Россия (“Заснула чернь”, 1913: “Россия, ты на камне и крови”), “кровь-строительница”, которая хлещет горлом из земных вещей” (“Век”, 1923), кровь, которая “оледенится зарею на круговом, на мирном судьбище” (“А небо будущим беременно”, 1923)» [Тарановский 2000, 59].
Значимость соматизмов в поэзии Мандельштама не всегда связана с количеством употреблений, иногда менее частотные соматизмы являются более значимыми. К таким соматизмам относится родовое слово тело , а также группа слов, связанная с костной системой: позвонки , позвоночник ( хребет ), кость , хрящ , ребро .
Тело – заглавное слово поля соматизмов. Рефлексия о нем начинается у поэта уже в ранний период творчества: «Дано мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим?» (1909). По словам В.Н. Топорова, это «стихотворение о теле, начинающееся почти как теорема и сразу уходящее в глубину антропоцентрических интуиций» [Топоров 1991, 12].
Ряд употреблений слова тело – метафорические, в олицетворениях: «И храма маленькое тело / Одушевленнее стократ / Гиганта, что скалою целой / К земле, беспомощный, прижат!» (1914), «Сто лет тому назад подушками белела / Складная легкая постель, / И странно вытянулось глиняное тело , – / Кончался века первый хмель» (1924).
Воплощение поэтического замысла выражается метафорой «призраки требуют тела»: «Как облаком сердце одето / И камнем прикинулась плоть, / Пока назначенье поэта / Ему не откроет Господь: / Какая-то страсть налетела, / Какая-то тяжесть жива; / И призраки требуют тела , / И плоти причастны слова» (1910).
Тело у Мандельштама – двоякий образ. С одной стороны, оно связано с жизнью: «Тонкие пальцы дрожат, / Хрупкое тело живет: / Лодка скользящая над / Тихою бездною вод» (1909), с другой – со смертью: «Где я ищу следов красы и чести, / Исчезнувшей, как сокол после мыта, / Оставив тело в земляной постели» (1933–1934).
Судя по данным Поэтического подкорпуса НКРЯ, слова позвонки, позвоночник до Мандельштама в переносном значении не использовались. У Мандельштама это один из ключевых образов, представленный в тропеи-ческом воплощении. Позвонки и позвоночник ( хребет ) связаны в основном с образом века-зверя в стихотворении «Век» (1922): «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки ? / <…> И еще набухнут почки, / Брызнет зелени побег, / Но разбит твой позвоночник , / Мой прекрасный жалкий век!»
Как считает Л. Кихней, «ключевые образы этого стихотворения восходят к семантическому инварианту “оси”, но оси поврежденной, что мотивируется органической метафорой века как зверя с перебитым позвоночником. Позвоночник (здесь как ассоциат “оси”) оказывается “разбит”, позвонки “двух столетий” разъединены. То, что должно быть твердым остовом, несущей конструкцией в мандельштамовской миромодели, оказывается мягким, текучим, неустойчивым [Кихней 2019, 63].
Образ хряща Л. Кихней считает входящим в «постапокалиптический миф Мандельштама. На фоне ломки жесткого и закостеневшего «вещества существования» возникает новая жизнь, она содержит праформы нового хребта, хорды, «невидимого» пока позвоночника. И поскольку эта новая жизнь еще очень слаба, то ее легко погубить. Отсюда мотивы младенчества, ребенка, нежного хряща, темени жизни и сопутствующий им мотив абсолютной незащищенности» [Кихней 2019, 65]: «Тварь, покуда жизнь хватает, / Донести хребет должна, / И невидимым играет / Позвоночником волна. / Словно нежный хрящ ребенка / Век младенческий земли – / Снова в жертву, как ягненка, / Темя жизни принесли».
За пределами данной статьи мы оставили некоторые другие важные для Мандельштама соматизмы: лицо ( лик ), веки , ресницы , брови , грудь , плечи, горло .
Не менее важной темой является исследование вхождения слов-сома-тизмов в устойчивые словосочетания. Эта тема рассматривалась в книге [Успенский, Файнберг 2020]. Мы надеемся обратиться к этим темам в дальнейшем.
Проведенный анализ контекстов употребления соматизмов в стихотворениях Мандельштама позволяет сделать предварительные выводы об эволюции их функционирования в его творчестве. Так, если в ранних стихах преобладают контексты с положительной эмоционально-экспрес- сивной окраской, относящиеся к портретным и пейзажным описаниям, а также свойственные любовной лирике, то в позднем творчестве мы наблюдаем больше контекстов с негативной оценочностью, мотивированной политической обстановкой, вносящей в мироощущение поэта страх и трагизм. У соматизмов в разноплановых контекстах порождаются соответствующие позитивные или негативные ассоциации. Кроме подобных ассоциаций надо отметить усиление внимания поэта в поздних стихах к научно-философской тематике, что открывает новый ракурс использования соматической лексики.
Итак, мы рассмотрели особенности употребления основных соматиз-мов в стихах Мандельштама и пришли к выводу, что они обладают особой значимостью в художественном мире Мандельштама. Все контексты мы классифицировали на метафорические и неметафорические употребления (вместе с метафорическими употреблениями рассматривались и употребления в сравнительных конструкциях). Эта классификация дала возможность очертить круг функций соматизмов в тех и других контекстах. Одна из основных их функций в тропеических контекстах – олицетворение. Среди неметафорических контекстов выделено употребление соматической лексики в портретных описаниях, в описании различных ситуаций, в том числе телесного контакта, ситуаций, связанных с любовными отношениями.
Выявлена особая функция соматизмов, связанная с их употреблением в контекстах, связанных с рефлексией по поводу поэтического творчества, места поэта в мире, психофизиологических состояний лирического субъекта.
Список литературы Особенности употребления соматической лексики в поэзии О. Мандельштама
- Венцлова Т. Собеседники на пиру. Литературоведческие работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 624 с.
- Иванов Вяч.Вс. «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1990. С. 356–366.
- Иванов Вяч.Вс. Стихотворение О. Мандельштама «Рояль». URL: http://kogni.narod.ru/royal.htm (дата обращения: 03.04.2023).
- Кихней Л. Лично-именной код в лирике Мандельштама // Literatūra. 2019. Vol. 61 (2). P. 49–69.
- Ланн Ж.-К. Метафоры тела в поэзии Велимира Хлебникова // Тело в русской культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 324–339.
- Литвина А., Успенский Ф. Чепчик счастья: К интерпретации одного образа в «Стихах о неизвестном солдате» Осипа Мандельштама // Toronto Slavic Quaterly. 2011. № 35. P. 69–88.
- Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1990. 638 с.
- Марголина С.М. Мировоззрение Осипа Мандельштама. Marburg; Lahn: Blaue Hörner Verlag Bernd E. Scholz, 1989. 210 s.
- Меркель Е.В. Телесные и растительные субстанции как репрезентанты живого и неживого в поэзии Осипа Мандельштама // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23113 (дата обращения: 03.04.2023).
- Миняева С.А. Соматическая лексика в поэзии М.И. Цветаевой: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.02.01. СПб., 2007. 26 с.
- НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата обращения 04.03.2023).
- Плужникова Д.М. Поэтика соматизмов в творчестве Беллы Ахмадулиной: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.02.01. Белгород, 2017. 21 с.
- Струве Н. Осип Мандельштам. London, Overseas Publications Interchange Ltd., 1988. 336 с.
- Сурат И. Ничей современник // Новый мир. 2010. № 3. С. 177–190. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2010/3/nichej-sovremennik-3.html (дата обращения: 04.03.2023).
- Сычева Е.Н. Соматизмы в поэтических текстах Ф.И. Тютчева и в составе фразеологических единиц // Вестник Брянского государственного университета. 2012. № 2-1. С. 289–293.
- Тарановский К. О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры, 2000. 432 с.
- Топоров В.Н. О «психо-физиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Осип Мандельштам. К 100-летию со дня рождения. Поэтика и текстология. Материалы научной конференции 27-29 декабря 1991 г. М., 1991. С. 7–27.
- Успенский П.Ф., Файнберг В. К русской речи. Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 360 с.
- Фатеева Н.А. Функции соматизмов в поэзии Б. Пастернака // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2020. № 4. С. 34–44.
- Фатеева Н.А. Функции соматизмов в поэзии Аронзона // Восемь великих / отв. ред. Ю.Б. Орлицкий. М.: РГГУ, 2022. С. 180–194.
- Харченко В.К., Плужникова Д.М. Лингвосоматика. Обозначение частей тела в поэзии Беллы Ахмадулиной. М.: URSS, 2015. 224 с.