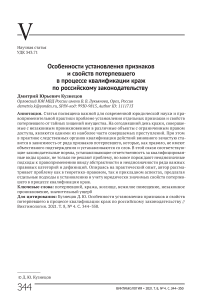Особенности установления признаков и свойств потерпевшего в процессе квалификации краж по российскому законодательству
Автор: Кузнецов Д. Ю.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 4 т.8, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена важной для современной юридической науки и правоприменительной практики проблеме установления отдельных признаков и свойств потерпевшего от тайных хищений имущества. На сегодняшний день кражи, совершаемые с незаконным проникновением в различные объекты с ограниченным правом доступа, являются одними из наиболее часто совершаемых преступлений. При этом в практике следственных органов квалификация действий виновного зачастую ставится в зависимость от ряда признаков потерпевшего, которые, как правило, не имеют объективного подтверждения и устанавливаются со слов. В этой связи соответствующие законодательные нормы, устанавливающие ответственность за квалифицированные виды кражи, не только не решают проблему, но вовсе порождают неоднозначные подходы к правоприменению ввиду абстрактности и неоднозначности ряда важных правовых категорий и дефиниций. Опираясь на практический опыт, автор рассматривает проблему как в теоретико-правовом, так и прикладном аспектах, предлагая отдельные подходы к установлению и учету юридически значимых свойств потерпевшего в процессе квалификации краж.
Потерпевший, кража, жилище, нежилое помещение, незаконное проникновение, значительный ущерб
Короткий адрес: https://sciup.org/14121542
IDR: 14121542 | УДК: 343.71
Текст научной статьи Особенности установления признаков и свойств потерпевшего в процессе квалификации краж по российскому законодательству
Кража традиционно рассматривается как наиболее часто совершаемое преступление. Обилие накопленной судебной практики, ее постоянное обобщение и анализ на научном уровне свидетельствуют о значительном внимании к проблемам квалификации данного преступления, разграничения со смежными составами, а также расследования соответствующих уголовных дел со стороны законодателя и правоприменителей всех уровней.
Будучи имущественным преступлением, кража может посягать не только на отношения собственности, но и затрагивать иные интересы потерпевших [1], что требует единообразных подходов к оценке дополнительных объектов ее воздействия.
Постановка проблемы
Совершение тайного хищения чужого имущества всегда влечет столкновение интересов потерпевшего, который заинтересован в наиболее полном восстановлении нарушенных имущественных прав, с одной стороны, и виновного лица, которое заинтересовано в минимизации уголовно-правовых последствий содеянного, с другой. Объективная задача для правопорядка в данном случае заключается в применении такого подхода, который позволит в процессе уголовного судопроизводства учесть все интересы заинтересованных лиц, восстановить права потерпевшего и, наконец, назначить виновному справедливое наказание.
Как следует из положений статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уголовные дела о краже относятся к делам публичного обвинения. С учетом этого, представляется, что уже в силу одного этого обстоятельства потерпевшая сторона призвана оказывать минимальное влияние на процесс квалификации действий совершившего тайное хищение чужого имущества лица и его последующее уголовное преследование.
Однако анализ правоприменительной практики по ряду квалифицированных составов кражи показывает, что зачастую именно от субъективной позиции потерпевшего, то есть жертвы преступления, во многом зависит возможность вменения виновному лицу ряда квалифицирующих признаков.
Вместе с тем, важно отметить, что и учет позиции потерпевшего от кражи имеет принципиальное значение, поскольку неразрывно связан с важнейшими с процессуальной и криминологической точек зрения вопросами обеспечения прав и восстановления правового положения лиц, которыми преступлением причинен соответствующий вред.
Описание проводимого исследования
Значительные сложности в процессе квалификации традиционно вызывают тайные хищения чужого имущества, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Между тем, практика расследования уголовных дел о данных преступлениях показывает, что возможность вменении виновному лицу отмеченного квалифицирующего признака зачастую находится в прямой зависимости от позиции и юридически значимых действий потерпевшего.
Данная проблема коренится в размытой формулировке понятия жилища, которое содержится в законе. Так, в соответствии с легальным определением, которое содержится в примечании к статье 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), жилищем может быть признано, в принципе, любое помещение, которое пригодно для временного проживания.
Подобный законодательный подход, к сожалению, не может быть признан удачным. Так, А. В. Верещагина справедливо называет легальное определение понятия жилища «гуттаперчевым» [2, с. 111–112]. Подобная размытость, по мнению автора, способна привести к неверной квалификации действий виновного (занижению либо завышению степени общественной опасности содеянного), а также нарушить единообразие судебной практики по уголовным делам данной категории.
Опыт работы автора настоящей статьи в следственных органах показывает, что зачастую вопрос об отнесении помещения к жилому разрешается по воле потерпевшего, что не вполне справедливо.
К сожалению, правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации относительно спорных вопросов квалификации кражи1, несмотря на то, что она регулярно дополняется и актуализируется, не учитывает всех проблем в установлении признаков совершенного преступления, которые регулярно возникают на практике. В частности, это касается возможности отнесения места совершения хищения к жилищу либо нежилому помещению. Такое положение дел делает саму трактовку уголовно-правового понятия жилища оценочным суждением правоприменителя и порождает разные подходы в правоприменительной практике.
С одной стороны следует признать однозначно справедливым законодательный подход, связанный с использованием категории «жилище» вместо более узкого — «жилое помещение». В данном случае следует согласиться с мнением исследователя С. А. Кузнецова, который отмечает, что «применение законодателем более широкого термина позволяет квалифицировать как «квартирную» кражу, совершенную с незаконным проникновением в такие объекты как чум, цыганская кибитка, шалаш и прочие, которые фактически на момент совершения преступления обнаруживают признаки жилища в соответствии с уголовным законом» [4, с. 60].
Однако на практике нередко встречаются ситуации, когда отнесение объекта к жилищу вызывает значительные трудности. К таким примерам можно отнести кражу, совершенную с незаконным проникновением в дачный дом. Подобные объекты зачастую не характеризуются признаками жилого помещения и не зарегистрированы соответствующим образом. Кроме того, даже подробный осмотр места происшествия иногда не позволяет сделать однозначный вывод о том, является ли такой дом жилищем.
Обобщая собственный следственный правоприменительный опыт, с одной стороны, следует отметить, что, если подобное хищение происходит в летний период, то содеянное неизбежно квалифицируется по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть как «квартирная» кража. Подобный подход однозначно согласуется с легальным определением жилища. Кроме того, дачные дома в летний период обычно используются собственниками как раз для временного проживания: люди в них отдыхают, принимают пищу, нередко ночуют и т. д. Но, с другой стороны, если подобное хищение совершается в зимний период, то квалификация содеянного не представляется однозначной.
На практике для того, чтобы квалифицировать такое хищение как квартирную кражу зачастую достаточно всего лишь «правильно» допросить потерпевшего, отразив в процессуальных документах, что в период совершения кражи он периодически проживал в доме либо иногда там присутствовал [3]. Подобное является закономерным следствием размытой законодательной формулировке о пригодности помещения для временного проживания. Хотя, вопрос об уголовно-правовом статусе помещения должен быть гораздо сложнее, чем просто учет позиции потерпевшего, который, как правило, заинтересован в завышении квалификации преступления. Кроме того, в завышении квалификации содеянного будут заинтересованы и оперативные службы, если будет установлено и изобличено лицо, совершившее преступление. Так, правоприменение постепенно пришло к порочной тенденции, при которой одно и то же преступление квалифицируется как «квартирная» кража, если установлено лицо его совершившее, и, как кража с незаконным проникновением в помещение, не являющееся жилищем, если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
Важность же проблемы состоит в том, что указанные составы отличаются по категориям. Кража с незаконным проникновением в жилище является тяжким преступлением и, в отличие от хищения из не являющегося жилищем помещения, не допускает многих правовых льгот для виновного лица, прежде всего, примирения с потерпевшим. Поэтому методологическая верность квалификации в данном случае является, своего рода, гарантией того, что лицо не будет необоснованно осуждено за тяжкое преступление только на основании позиции потерпевшей стороны и усмотрения правоприменителя.
Думается, что об однозначном отнесении объекта к жилищу даже в холодное время года свидетельствует его фактическое использования для проживания. На это могут указывать обнаруженные и тщательно зафиксированные в протоколе осмотра места происшествия основные жилищнобытовые коммуникации, необходимые для более или менее комфортного проживания, такие как, электропроводка, сети водоснабжения и газоотведения, а также предметы мебели, в том числе оборудованные спальные места, личные вещи проживающих и прочие элементы быта.
Иными словами, жилище должно фактически стать таковым, чтобы кража из него квалифицировалась соответствующим образом. При этом, как уже было отмечено, такой подход прямо не установлен ни уголовным законодательством, ни какими-либо обобщениями практики его применения, в том числе, документами Верховного Суда. Нормативная неурегулированность и нерешенность данного вопроса необоснованно расширяет сферу усмотрения правоприменителя и допускает возможность принципиально разного подхода к типовым ситуациям. Кроме того, гипотетически возможна и ситуация, когда в одном случае виновный достигнет определенного соглашения с потерпевшим, в результате чего последний укажет, что на момент совершения кражи в помещении не проживал. Тогда виновный понесет ответственность по менее тяжкой норме, тогда как в отсутствие подобного соглашения с потерпевшим он, в конечном счете, будет осужден за тяжкое преступление.
Представляется, что отменная проблема является весьма актуальной в сфере правоприменения, но, в то же время, недостаточно изученной в теории, в силу чего, возможно, не привлекает к себе должного внимания законодателя.
Вместе с тем, при рассмотрении вопросов установления признаков и свойств потерпевших от тайных хищений имущества нельзя не коснуться также другой важной проблемы. Речь идет об оценочной категории причинения значительного вреда законному владельцу похищенного имущества. Действующее законодательство в нормах статьи 158 УК РФ содержит указание на то, что юридически значимый факт причинения значительного ущерба определяется с учетом имущественного положения потерпевшего. Подобная норма при всей своей разумности и ориентировании в сторону обеспечения справедливости, рождает новую возможность злоупотребления правом.
В настоящее время ни на законодательном уровне, ни на уровне правоприменения до конца не решен вопрос, о том, каким обстоятельствам должен отдаваться приоритет при установлении факта причинения потерпевшему значительного имущественного ущерба: некоим объективным данным, собранным в ходе проверки сообщения о преступлении и осуществления предварительного расследования, либо позиции потерпевшего.
В первом случае возникает справедливый вопрос о том, какие сведения об имущественном положении потерпевшего следует призвать объективными и могущими быть положенными в основу юридической квалификации совершенного противоправного деяния. Как известно, любой следователь, расследующий уголовное дело о краже, принимает определенные меры по установлению имущественного положения как лица, совершившего преступление, так и потерпевшего. Однако часто на практике возникает ситуация, когда потерпевший в своих показаниях указывает, что причиненный ему имущественный ущерб является для него значительным, несмотря на наличие объективно установленного факта владения им объектами недвижимого имущества, крупными денежными средствами и иными ценностями. Иными словами, непонятно, чему следует отдавать приоритет — мнению правоприменителя, основанному на анализе имущественных фондов потерпевшего, либо же мнению самого потерпевшего. Кроме того, данная проблема обнаруживает, помимо прочего, и этический аспект — насколько возможно оценивать имущественное положение потерпевшего в тех же пределах и на тех же основаниях, что и виновного лица; и насколько справедливо делать какие-либо выводы, не учитывая мнение самого потерпевшего.
Во втором случае, если при установлении факта причинения потерпевшему значительного имущественного ущерба делать акцент на субъективном мнении самого потерпевшего, то правоприменитель частично разрешает отмеченную выше проблему. Действительно, «сухой» сбор следователем характеризующего материала в установление имущественного положения потерпевшего не учитывает многих обязательств, которые тот исполняет. Так, даже внешне состоятельный потерпевший может содержать на иждивении нетрудоспособных членов семьи, выплачивать кредиты и нести иные обязанности. В таком случае уровень значительности причиняемого ему преступлением имущественного ущерба существенно снижается. Однако, с другой стороны, подобный подход порождает новую проблему — возможность потерпевшего злоупотребить своим правовым положением и максимизировать степень причиненного ему вреда, а, следовательно, искусственно повысить степень общественной опасности содеянного, что, в конечном итоге, приведет к завышению квалификации содеянного и необоснованного вменения лицу, совершившему преступление, квалифицированного состава кражи.
Результат исследования
Отмеченные особенности установления свойств и признаков потерпевшего в процессе квалификации краж, очевидно, являются следствием недостаточного законодательного урегулирования проблемы, существенно и, в ряде случаев, необоснованно расширяющего сферу усмотрения правоприменителя.
В этой связи, думается, что начинать в решении обозначенной проблемы следует с некоторого пересмотра таких законодательных категорий и терминов, как «жилище» и «значительный имущественный ущерб». Данные правовые категории относятся к весьма часто применяемым на практике квалифицирующим признакам кражи. Их присутствие в составе преступления существенно повышает степень общественной опасности содеянного, а потому установление данных признаков не может ставиться в зависимость от установления признаков и свойств потерпевшего. Необходимо однозначное строго интерпретируемое легальное определение указанных категорий, дабы правоприменительная практика могла выработать единый подход в применении соответствующих уголовно-правовых норм, соблюдая баланс между субъективными интересами потерпевшего и объективно установленными признаками.
Заключение
Методологически верный подход к квалификации краж, основанный на однозначно интерпретируемых непротиворечивых законодательных нормах и устойчивой единообразной практики их применения, способен повысить эффективность механизма реализации уголовной ответственности и обеспечить учет прав и законных интересов потерпевших при строгом соблюдении баланса с полным и справедливым вменением виновным в преступлении лицам квалифицирующих признаков, соответствующих фактическим и объективным обстоятельствам.