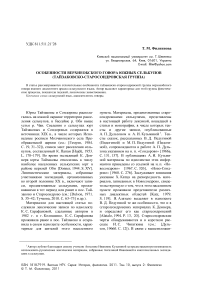Особенности верхнеобского говора южных селькупов (тайзаковско-старосондровская группа)
Автор: Филиппова Татьяна Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются отличительные особенности тайзаковско-старосондровской группы верхнеобского говора южного диалектного ареала селькупского языка. Автор выделяет характерные для этой группы фонетические процессы, показатели падежей, лексические заимствования.
Селькупский язык, диалектология, говоры
Короткий адрес: https://sciup.org/14737430
IDR: 14737430 | УДК: 811.511.21'28
Текст научной статьи Особенности верхнеобского говора южных селькупов (тайзаковско-старосондровская группа)
Юрты Тайзаковы и Сондоровы располагались на южной окраине территории расселения селькупов, в бассейне р. Оби выше устья р. Чаи. Сведения о селькупах юрт Тайзаковых и Сондоровых содержатся в источниках XIX в., в числе которых Исповедные росписи Молчановского села Преображенской церкви (см.: [Гемуев, 1984. С. 19, 31–32]), список мест расселения селькупов, составленный К. Папаи [Hajdú, 1953. L. 178–179]. Во время экспедиций К. Доннера юрты Тайзаковы относились к числу наиболее населенных селькупских юрт в районе верхней Оби [Donner, 1944. S. XV]. Лингвистические материалы, собранные участниками экспедиций, организованных во второй половине XX в., включают записи, продиктованные селькупами, проживавшими в тот период или ранее в пос. Тай-заково и Старосондрово (см.: [Dulson, 1971. S. 35–42; Тучкова, 2010. С. 63–73] и др.).
Материалом для настоящей статьи послужили лексические записи по идиолекту К. С. Сарафановой, сделанные автором в 1982 г. в г. Колпашево. К. С. Сарафанова проживала ранее в пос. Тайзаково и сохранила в своем идиолекте особенности, характерные для жителей этого населенного пункта. Материалы, продиктованные старо-сондровскими селькупами, представлены в настоящей работе лексикой, вошедшей в статьи и монографии, в числе которых тексты и другие записи, опубликованные А. П. Дульзоном и А. И. Кузьминой 1. Тексты сказок, рассказанных В. Д. Педугиной (Пидогиной) и М. П. Педугиной (Пидоги-ной), сопровождаются в работе А. П. Дуль-зона указанием на н. п. «Сондорово» [1966а. С. 131, 137]. В публикациях А. И. Кузьминой материалы по идиолектам этих информантов приведены со ссылкой на н. п. «Но-восондрово» [1967. С. 326], «Ново-Сонд-рово» [1968. С. 276]. Заслуживает внимания указание Х. Катца на разнородность материалов, записанных в Новосондрово, свидетельствующую о том, что в этом населенном пункте проживали представители различных диалектных областей [Katz, 1979. S. 119]. Я. Алатало выделяет в идиолекте В. Д. Педугиной те же особенности, что и в (старо)сондровских материалах К. Доннера, и определяет его как старосондровский [Alatalo, 1994. P. 13, 20]. Старосондровские черты обнаруживаются и в коротком рассказе И. С. Чигаткина (см.: [Дуль-зон, 1966б. С. 12]). В связи с вышеизложен- ным мы определяем идиолекты В. Д. Педу-гиной (Пидогиной) и И. С. Чигаткина как старосондровские и приводим их материалы с указанием на этот населенный пункт: СтС.
В классификациях говоров и диалектов селькупского языка идиолекты селькупов, проживавших в пос. Тайзаково и Старосон-дрово, входят в состав следующих диалектных подразделений: чаинский диалект, имевший распространение в н. п. Старосон-дрово, Тайзаково, Чалково и Сунгурово [Ja-nurik, 1978. L. 81]; верхнеобский говор, распространение которого определяется как территория по Оби выше Колпашева и на нижней Кети [Хелимский, 1993. С. 371] или только по Оби выше Колпашева [Беккер и др., 1995. Ч. 1. С. 23]; деназализационная диалектная группа, включавшая во второй половине XX в. идиолекты селькупов, проживавших в н. п. Старосондрово и Тайзако-во [Alatalo, 1994. P. 13–14].
Я. Алатало выделяет ряд особенностей, характерных для деназализационной группы, в числе которых три фонетических процесса: деназализация в сочетании «носовой + гоморганный смычный», палатализация согласных перед передними гласными, дифтонгизация долгих гласных [Ibid. P. 9, 13–14]. Первый из названных процессов прослеживается и в наших материалах.
Основываясь на материалах, собранных во второй половине XX в., можно выделить следующие особенности тайзаковско-старо-сондровской группы верхнеобского говора.
-
1 . Деназализация , т. е. ассимиляция в сочетании «носовой + гоморганный смычный согласный» с переходом носового звука в смычный: nd > dd , mb > bb , ŋg > gg . Ассимиляция в этих сочетаниях первоначально выявлена и описана К. Доннером, обнаружившим ее в районах Чаи, верхней Оби и нижней Кети. Согласно выводам К. Доннера, переход носового звука в смычный в указанных сочетаниях являлся составной частью процесса парадигматического чередования ступеней: gg ~ ŋŋ (< ŋg ), dd ~ nn (< nd ), bb ~ mm (< mb ) 2 [Donner, 1924].
В записанных нами материалах деназализация произошла в подавляющем большинстве слов, имевших в своем составе сочетания носовых и гоморганных смычных. Старосондровские материалы второй половины XX в. свидетельствуют о регулярности процесса деназализации и в этом населенном пункте. Результаты деназализации отмечены также на нижней Кети [Купер, 1983].
Примеры:
dd , d (< * nd ), d´d´ , d´ (< * ńd´ ):
-
• в основах: Тайз. küddä ‘конь, лошадь’ (Ф), ködö , СтС qüddə (DÜR 39), kü`dd (SkWb. 219) ид., НК k´üdd 2 ‘конь’ (Куп. 91), ср. НС к ÿ нт (К), об. Ш к ÿ нд (СРДС 56) ид.; Тайз. aDo·kka ‘обласок’ (Ф), СтС атдока ид. (ДКС 128), СтС add ō ·ka ‘kleines Boot’ (SkWb. 25), НК addogga ‘обласок’ (Куп. 91), ср. НС андока ид. (ДКС 142); Тайз. a·DDalBan ‘радуюсь’ (Ф), OO ā dD ā nn Яŋ ид. (SkWb. 25), ср. НС а : нданынг ‘обрадовался (он)' 3 (КДМ 322), об. Ш андалбыгу ‘радоваться’ (СРДС 16);
-
• в грамматических показателях:
-
1) в показателе 2 л. ед. ч. глаголов субъектного типа спряжения - DDə , - naDDə и др. (< *- ndə, *- nandə ): Тайз. č a W aDD ə ‘идешь’, pal´d´a·t ‘ходишь’, q β anna·DD ə ‘уходишь’ (Ф), СтС t ǖ watt ə 2 л. ед. ч. от tüqo ‘прийти’ (ДОИ 203), mann 2 madd 2 ‘смотришь’ (Куп. 93), НК t ǖ add 2 ‘ты пришел’ (Куп. 91), ср. НС пал ’ д ’ изант ‘ходил (ты)’ (К), Ив. töwant 2 л. ед. ч. от tüqo (ДОИ 203);
-
2) в показателе датива-иллатива (после основ на гласный) - DDa , - tdə , - ttə (< *- ndə ): Тайз. mad´oDDa ‘в тайгу’, e·doDDa ‘в деревню’ (Ф), СтС qožatd ə ‘в мешок’, mal W atd ə ‘на зайцев’ (МСЯ I. 206, 210), СтС ма : д ’ оттъ ‘в тайгу’ (ДКС 122), НК mat´t´odd 2 ид. (Куп. 91), ср. НС ки : д ’ ент ‘в кузов’ (К), Ив. ando·nd ‘в лодку’ (МСЯ I. 206);
-
3) в показателях падежей личнопритяжательного склонения, в состав которых входит посессивный суффикс 2 и 3 л. ед. ч. родительного падежа - ddə , - də , - t (< *- ndə ), в том числе:
-
• в лично-притяжательном показателе 3 л. ед. ч. датива-аллатива - tnä , - tdənä ,
- tdzne (< *- ndana ): Тайз. ad'atna ‘к своему отцу’ (Ф), СтС pajatd i ne ‘жене своей’ (МСЯ I. 212), СтС ä: зътдън ä ‘своему отцу’ (ДКС 122), ср. НС па j антне ‘своей жене’ (ДКС 128);
-
• в лично-притяжательном показателе 2 и 3 л. ед. ч. датива-иллатива - yit 4 , - yat и др. (< *- yint , *- yant ): Тайз. paksanYit ‘в твое седло’, pan zanGit5 ‘в ножны свои (его)’ (Ф), СтС tan addoka γə t ‘к твоему обласку’ (МСЯ I. 170), ср. НС мистаγънт ‘на свое (твое) место’ (ДКС 130), Ив. m ā tkand ‘к дому (своему) (ее)’ (МСЯ I. 125);
-
• в лично-притяжательном показателе 2 л. ед. ч. локатива - yit (< *- yjnt ): Тайз. sommaYit ‘в ступке (твоей)’, ср. Ив. somma-gend ‘в ступке (твоей)’ (Ф);
-
3 (< * 33 < *nj): Тайз. na-gЙigu ‘писать’ (Ф), ср. НС нагынджил’е (КДМ 321), Ив. naginзigu (Ф) ид.; Тайз. t'o3in ‘медленно’ (Ф), ср. чёндженгъ ид. (ЮС Григ. 214); Тайз. qв a3a-n ‘схожу, пойду’ (Ф), СтС kваджан ‘пойду’ (ДКС 122), ср. НС kванжанг ‘пойду’ (ДКС 136), Ив. qв an3ak ид. (МСЯ I. 201);
bb , b (< * mb ):
-
• в показателе повествовательного прошедшего времени (после основ на гласный) - bb -, - BB -, - b - (< *- mb -): Тайз. qal 2 BBa ‘остался (он)’, mebbэл ‘сделала (ты)’, panaliBBa ‘сломался (он)’, waziBBa ‘поднялось’ (Ф), СтС т’елъба ‘жил (он)’ (ДКС 122), НК tǖbbaŋ ‘пришёл я’ (Куп. 91), ср. НС илым-па:н варкымпа:н ‘жили-были’ (ДКС 134), об. Ш мембат ‘сделал-он’, паналымба ‘сломалось’ (СРДС 125, 179);
-
• в показателе глаголов дуративной со-вершаемости (после основ на гласный) - BB -, - pb - и др. (< *- mbi) : Тайз. а•liBugu ‘обманывать’, kizeku-BBan ‘скучаю’, kiziBBa- ‘чешется’ (Ф), СтС л aripba ‘боится’ (МСЯ I. 212), ср. НС маннымпан ‘глядит’, ланkымпан ‘кричит’ (ДКС 130), Ив. kizimba ‘чешется’ (Ф);
-
2. Переход η > n в ауслауте . В наших записях звук ŋ встречается только в инлау-те. В ауслауте во всех случаях ŋ > n . Замена - ŋ на - n отмечается и у старосондровских селькупов, в частности, в идиолектах тех информантов, с которыми работала А. И. Кузьмина [1974. С. 251]. В лексических материалах, продиктованных В. Д. Педугиной [Дульзон, 1966а. С. 122–128; 1966б. С. 12; Кузьмина, 1968. С. 276–277] и И. С. Чигат-киным [Дульзон, 1966б. С. 12], ауслаутный ŋ (в транскрипции на основе русского алфавита нг ) заменяется на n . В числе особенностей, выделенных Х. Катцем при анализе этих текстов [Дульзон, 1966а; 1966б], – переход * - ŋ > - n [Katz, 1979. S. 128, 132]. В других публикациях при цитировании материалов, продиктованных старосондров-скими селькупами, встречаются формы как на - n (<*- ŋ ), так и на - ŋ (ММС 106; Куп. 93; МСЯ II. 83, 122, 208, 225 и др.). В статьях А. П. Дульзона приводится 4 слова с ŋ в ауслауте, ареал распространения которых включает в числе прочих населенных пунктов пос. Тайзаково [Dulson, 1971. S. 39; Дульзон, 1969. С. 204]. Рассмотренные материалы свидетельствуют о наличии в пос. Тайзаково и Старосондрово перехода - ŋ > - n , охватившего, по крайней мере, часть идиолектов.
gg , g и др. (< * ŋg ): Тайз. t´agwa ‘нет, отсутствует’ (Ф), СтС d´aqwa ‘нет’ (МСЯ II. 239), НК t´agu (< - gg -) ‘нет ее’ (Куп. 93), ср.
НС т’äнгван ‘нет его’ (КДМ 323), Ив. t´angβa ‘отсутствует’ (МСЯ I. 38).
В нескольких случаях отмечается ассимиляция в двух сочетаниях согласных в составе одного и того же слова: Тайз. soγu-d´-a-BB-a ‘спрашивал (он)’ ( d´ < * d´d´ < * ńd´ , BB < * mb ); ča-γγ-ud´i-bb-a ‘распухла (она)’ ( γγ < * gg < * ŋg , bb < * mb ); kuлu-bb-a-t ‘говоришь’ ( bb < * mb , t < * nt ) (Ф); СтС a-dd-o·kkaγe-dd-e (< * andokkaγende ) ‘из твоего обласка’ (МСЯ I. 237) ( dd < * nd в основе и в суффиксе).
Деназализация в сочетании «носовой + гоморганный смычный» встречается также в пос. Сунгурово: аддъм ‘лодку’, садды ‘новую’, маз’от ‘в тайгу’ ( дд , т < * нд ), kваджаутъ ‘пойдем’ ( дж < ндж ) (ВАК 87, 89), но: андъм ‘лодку’, kондегу ‘спать’, ÿберенджау ‘начну’ и др. (ВАК 86, 89). Малочисленность известных автору лексических материалов, записанных в этом населенном пункте, не позволяет определить, насколько широкое распространение имел в нем этот процесс.
Ауслаутный n (< * ŋ ) отмечается в следующих случаях:
-
1) в показателе определительных наречий: Тайз. son ‘хорошо’ (Ф), СтС son ид. (ММС 106), ср. НС сонг (К), кет. so ŋ (МСЯ I. 48) ид.; Тайз. wa^rYin ‘громко’ (Ф), ср. НС варγынг ‘сильно’ (‘громко’) (ДКС 130), кет. в ä рГынг ‘громко’ (КДМ 289);
-
2) в показателе 1 л. ед. ч. местоимений с основой on -, используемых в функции возвратно-притяжательных: Тайз. onen s i r9Yan ‘своей (моей) корове’, onen kaл a Yi n ‘в своей (моей) чашке’ (Ф), СтС онен kыбан’ажав ‘своего (моего) ребенка’ (ДКС 128), онен jе:доγон ‘в деревне своей (моей)’ (ДКТ 12), ср. НС оненг kыбан’ажакам ‘своего (моего) ребенка ’ (ДКС 134), кет. оннäнг е:вем ‘свою (мою) мать’ (КДМ 282);
-
3) в показателе 1 л. ед. ч. глаголов субъектного типа спряжения: Тайз. ilan ‘живу’, kizekuBBan ‘скучаю’, qв aWa-n ‘схожу’, qaлa^n ‘осталась (я)’, oYiliBan ‘привыкла (я)’ (Ф), СтС kваджан ‘уйду’, ÿ:бан ‘отправлюсь’ (ДКС 122, 128), аурче:джан ‘наемся’, коннеджан ‘спать лягу’, кöз’езан ‘ходил (я)’ (ДКТ 12), СтС te·irbān ‘думаю’, palduzān ‘ходил (я)’, (но: кв aWa у ‘уйду’, tusa у ‘приехал (я)’, кgee- л a у ‘захочу’) (МСЯ II. 208, 225, 83, 122, 224), ср. НС кö:ц’куланг ‘схожу’, иланг ‘живу’, те:рбанг ‘думаю’ (ДКС 148, 150), parannaŋ ‘вернулся (я)’, jezaŋ ‘был (я)’ (МСЯ I. 236, 241), кет. ча : чанг ‘иду’(КДМ 295).
-
3. Использование в качестве показателя назначительного падежа суффикса -no. Назначительный падеж образуется в южноселькупских диалектах с помощью суффиксов -( n ) go , -( ŋ ) go , -( t ) qo , -( t ) ko , -( t ) ku . В нескольких населенных пунктах употребляется также суффикс - no , используемый отдельно или в сочетании с суффиксом родительного падежа: в Ласкино -( t ) nō (наряду с -( t ) qo , -( t ) ko ), в Кулеево - no (наряду с -( t ) ku ) [Кузьмина, 1968. С. 261–264; Беккер и др., 1995. Ч. 1. С. 275–276]. В пос. Старо-сондрово, а также в диалекте селькупов, проживавших в конце XIX в. в районе Нижней Чаи и прилегающей к устью Чаи части бассейна Оби, назначительный падеж обра-
зуется только с помощью суффикса - no (- nō , - nno ) [Беккер и др., 1995. Ч. 1. С. 276; He-limski, 1983. P. 34]. В наших материалах на-значительный падеж представлен также только формой на - no . Например: Тайз. man кigan qвa^ngu сo-birno ‘я хочу сходить за ягодами’, man meritza-в torGono ‘я заплатила за шелк’, ad´a· kanza·no soγud´aBBa ‘отец о трубке спрашивал’ (Ф); СтС man üduzam pōno ‘я послал за дровами’ (МСЯ I. 280), СтС öдно на kванаш … ‘по воду пойдешь...’ (ДКС 122); в материалах Н. П. Григоровско-го: тауно ‘за это’ (Hajdu 47), няенно ‘за хлебом’ (ЮС Григ. 147). Суффикс назначи-тельного падежа - no используется также в Новосондрово, в частности, в словах kайно ( кайно ) ‘зачем’, ‘почему’, нано ‘потому’ (ДКС 134, 136).
-
4. Наличие посессивных форм имен существительных 1 л. ед. ч. винительного и родительного падежей, образованных по модели: основа + посессивный показатель + падежный показатель . В наших материалах и в материалах, собранных во второй половине XX в. в пос. Старосондрово и Новосондрово, представлены две посессивные формы 1 л. ед. ч. винительного падежа. Первая форма образуется, как и в других селькупских диалектах, посредством присоединения к основе посессивного показателя винительного падежа. Показателями этого падежа являются: в Старосондрово - u , - w (по материалам А. И. Кузьминой) (ККП 57), в Тайзаково - β (Ф). Эта форма винительного падежа идентична форме именительного падежа лично-притяжательного склонения. Ср.: Тайз. udo-β čaγγud´ibba ‘рука (моя) распухла’ и man kozinaв udo-в ‘я запачкала руку (свою)’ (Ф).
-
5. Наличие тюркизмов, заимствованных в поздний период селькупско-тюркских контактов на крайнем юге селькупской территории. В лексике тайзаковско-старосондровской группы верхнеобского говора сохранились слова, заимствованные из тюркских языков в самый поздний период контактов верхнеобских, чаинских и чулымских селькупов с сибирскими татарами и чулымскими тюрками. Эти слова были записаны М. А. Кастреном в районе верхней Оби и Чулыма, Н. П. Григоровским – в районе нижней Чаи и прилегающей к устью Чаи части бассейна Оби, К. Доннером – на верхней Оби и Чае. Узкий ареал распространения, а также некоторые фонетические особенности свидетельствуют о сравнительно позднем времени их заимствования [Филиппова, 1994. С. 53–54]. В связи с тюр-кизацией и русификацией южной части
Формы с ауслаутным n (< ŋ ) встречаются также в пос. Сунгурово: кыган ‘хочу’, паjамбан ‘старая стала (я)’ (ВАК 86, 89).
Вторая форма, зафиксированная только в верхнеобском говоре, является более сложной. Она образуется по модели: первая форма + показатель винительного падежа безличного склонения. Например: Тайз. man аlzmnaв ad'a-u-m (-u- < —в—) ‘Я обманула отца (своего)’ (Ф); СтС …kватkу … ера-у-м ‘убить... моего мужа’ (ДКС 126); НС ман нану еве-в-о-м ниlзин кенав…’Я потому маму (свою) так назвал...’ (ДКС 136). Иллюстрацией употребления первой и второй форм может служить отрывок из сказки, рассказанной М. П. Педугиной: НС …нындо па-жен’е: ман уло-в манименжет мани- менжит 6 ман уло-в-ы-м, ...пожоу-женжит ман уло-в-ы-м... ‘Потом баба-яга будет у меня в голове искать (букв.: ‘мою голову смотреть’)....у меня в голове будет искать, ...мою голову кольнет...’ (ДКС 136).
В текстах, продиктованных М. П. Педу-гиной, а также в старосондровских материалах встречается лично-притяжательная форма 1 л. ед. ч. родительного падежа, образованная посредством присоединения к основе посессивного суффикса - u -, за которым следует показатель родительного падежа - n . Например: СтС ага - у - н ним ‘имя брата моего’ (ККП 57); НС ман тымн ’ а - у - н ним ‘моего брата имя’; а тау манани нан ’ а - у - н с ’ÿ: дъ ‘А это моей сестры шитьё’ (ДКС 136, 144). Наряду с рассмотренной, используется форма, способ образования которой соответствует правилам образования этого падежа в других селькупских диалектах. Например, СтС man s 2 rro-nn ə amd ə ‘рог моей коровы’ (МСЯ I. 87) (к основе присоединяется падежный суффикс, за которым следует посессивный показатель). Использование лично-притяжательных форм 1 л. ед. ч. винительного и родительного падежей с нетипичным для селькупских посессивных форм порядком следования суффиксов в пос. Ста-росондрово и Новосондрово отмечено также Я. Алатало [Alatalo, 1994. P. 13–14].
селькупской территории большая часть этих заимствований к настоящему времени утрачена. Несколько тюркизмов сохранилось в верхнеобском говоре, в том числе следующие: Тайз. su л, so л - ‘овес’ (Ф), OO sol ид. (SkWb. 384); ср. барабинское солы ид. (ДЯБТ 182); НС сала k ‘копыто’ (К), OO salla г (SkWb. 384), в материалах Н. П. Гри-горовского саллакъ ид. (ЮС Григ. 173); ср. чулымско-тюркское цала k ид. (ДЧТЯ 464); НС керегенг (< керек + енг )‘придется’ (ДКС 134); ср. барабинское к ä р ä к ‘нужно’ (ДЯБТ 158).
Таким образом, верхнеобский говор, относящийся по своим основным признакам к сюсюкумским говорам, имеет ряд особенностей, представленных либо только в нем, либо также в отдельных близлежащих говорах. Отличительные черты верхнеобского говора наиболее полно прослеживаются в тайзаковско-старосондровской группе. Крайне южное положение верхнеобского говора обусловило включение его в сферу не только раннего, но и сравнительно позднего тюркского влияния, а также в ареал действия процесса деназализации, происходившего в районах Чаи, верхней Оби и нижней Кети. Судя по материалам М. А. Кастре-на и К. Доннера, время действия этого процесса относится ко второй половине XIX – началу XX в. Во второй половине XX в. результаты регулярного процесса деназализации сохранялись только в тайзаков-ско-старосондровской группе верхнеобского говора и в нижнекетском говоре.
PECULIARITIES OF THE UPPER OB SUBDIALECT OF THE SOUTHERN SELKUPS (TAYZAKOVO-STAROSONDROVO GROUP)