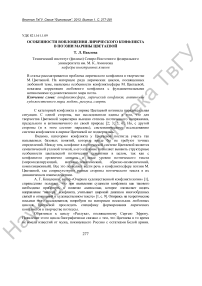Особенности воплощения лирического конфликта в поэзии Марины Цветаевой
Автор: Павлова Татьяна Леонидовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема лирического конфликта в творчестве М. Цветаевой. На материале ряда лирических циклов, посвященных любовной теме, выявлены особенности конфликтосферы М. Цветаевой, показана корреляция любовного конфликта с фундаментальными антиномиями художественного мира поэта.
Конфликтосфера, лирический конфликт, антиномии художественного мира, любовь, разлука, смерть
Короткий адрес: https://sciup.org/146121091
IDR: 146121091 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Особенности воплощения лирического конфликта в поэзии Марины Цветаевой
С категорией конфликта в лирике Цветаевой возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, все исследователи едины в том, что для творчества Цветаевой характерна высшая степень поэтического напряжения, предельного и антиномичного по своей природе [2; 3; 5; 6]. Но, с другой стороны (и в этом состоит парадокс), систематическому исследованию система конфликтов в лирике Цветаевой не подвергалась. ч
Видимо, категорию конфликта у Цветаевой постигла участь так называемых базовых понятий, которые вроде бы не требуют точных определений. Между тем, конфликт в поэтической системе Цветаевой является семантической узловой точкой, и его изучение позволяет выявить структурные особенности цветаевской поэтической семантики в целом, так как с конфликтом органично связаны и иные уровни поэтического текста (миромоделирующий, мотивно-тематический, образно-символический, композиционный). Все это позволяет вести речь о конфликтосфере поэзии М. Цветаевой, где соприсутствуют разные стороны поэтического текста в их динамическом взаимодействии.
А. Г. Коваленко, автор «Очерков художественной конфликтологии» [1], справедливо полагает, что при выявлении сущности конфликта как такового необходимо прибегнуть к понятию антиномии , которое «позволяет видеть направление “вектора” конфликта, учитывает широкий диапазон многообразных связей и отношений в художественном тексте» [1, с. 9]. Опираясь на теоретические посылки этого исследователя, попробуем на материале нескольких любовных циклов Цветаевой проследить специфику формирования лирических конфликтов в творчестве поэтессы.
Обратимся к циклу «Разлука», посвященному Сергею Эфрону. Появление этого цикла биографически связано с тем, что Цветаева в то время не имела известий от мужа, покинувшего Россию с остатками Белой армии.
Комментаторы указывают на то, что стихотворения цикла «образуют как бы единую поэму о разлуке – с мужем, с ребенком, с жизнью» [4, с. 495].
Название цикла ясно указывает на его внутренний конфликт, которому подчиняется его смысловое развертывание. Этот конфликт поистине многогранен. Во-первых, он представляет собой острое столкновение желаний лирической героини и действительности. Во-вторых, он мотивирован «внешним» сюжетом цикла – расставанием. Эти два аспекта, внутренний психологический и внешний событийный, тесно переплетаются в рамках циклического метаконфликта. Так, во втором стихотворении цикла психологический конфликт, связанный со страстным желанием обретения родного дома, выдвигается вперед.
На первый взгляд, этот конфликт, взятый в биографическом контексте, вполне закономерен. Однако его парадоксальность заключается в том, что, рассматриваемый в контексте всего творчества Цветаевой, он наполняется совершенно иными смыслами. Так, мы помним, что бездомность лирической героини трактуется как знак романтической отчужденности: дом как место оседлости предполагает четко очерченные границы, в то время как лирическая героиня Цветаевой, как правило, существует поверх всяких границ. Может быть, поэтому обретение дома в этом стихотворении дается в амбивалентном ключе, оно связывается с мотивом смерти:

Уроненные так давно
Вздымаю руки.
В пустое черное окно
Пустые руки
Бросаю в полуночный бой
Часов, – домой
Хочу! – Вот так: вниз головой
– С башни! – Домой! [4, с. 26]
Эксплицитно мотив разлуки появляется во втором стихотворении цикла, где он «встраивается» в семантическое поле конфликта стихотворения. Конфликт связан с желанием героини преодолеть разлуку и невозможностью это сделать (ср. «Небесные реки, лазурные земли, // Где друг мой навеки уже – // Неотъемлем» [4, с. 26]).
Так в стихотворении появляется мотив бесконечной дороги, мотив протянутых рук (этим жестом лирическая героиня как бы желает соединить два локуса), мотив улетающего журавлиного клина. Эта мотивная парадигма чняет смысл исходного конфликта стихотворения, который в конечном ге предстает как трагический, неразрешимый , ибо этот гордиев узел может рубить только смерть. Сам же экзистенциальный накал этого конфликта


связывается с тем, что единственной точкой опоры для себя – является сама героиня, которая будет ждать, несмотря ни на что, того, кому адресовано стихотворение:
Я спеси не сбавлю!
Я в смерти – нарядной
Пребуду – твоей быстроте златоперой
Последней опорой
В потерях простора! [4, с. 27]
Этот достаточно традиционный любовный конфликт у Цветаевой, как обычно, тянет за собой иные конфликты высшего порядка. Так, в третьем стихотворении цикла любовный конфликт, соотнесенный с темой разлуки, накладывается на оппозицию героини и рока. Столкновение этих двух конфликтов в едином семантическом пространстве цикла трансформирует их и бросает смысловой отсвет как на любовный, так и на «роковой» конфликты. Примечательно, что трагические лейтмотивы звучали уже во втором стихотворении, а в третьем они актуализировались в практически античном конфликте героини и судьбы.

Каким же образом происходит столкновение любовного и «трагического» конфликтов? Цветаева ищет высшую причину разлуки и полагает, что она заключается в зависти и ревности богов к человеческому счастью:
…Боги ревнивы
К смертной любови.

Роскошью майской Кто-то разгневан. Остерегайся
Зоркого неба [4, с. 27].
Конфликт человека и судьбы вполне закономерно тянет за собой конфликт жизни и смерти, который оказывается своеобразным «означающим» для «разлучного» конфликта: здесь Цветаева актуализирует древнее сравнение о том, что разлука подобна смерти. И в пятом стихотворении цикла возникают летейские образы загробного мира: река Лета оказывается непреодолимой чертой разлуки. Ср.: «Ручонки, ручонки! // Напрасно зовете: // Меж ними струится лестница Леты» [4, с. 28]. Любовный конфликт, спроецированный на мотив ревности богов, появляется и в стихотворении «Ночного гостя не застанешь…», где в финале возникает парадоксальные строки о ревности бога к своей любимице.
Связь любовной семантики с мотивами рока и судьбы вполне закономерно приводит Цветаеву к обращению к античным трагедиям, которые моделируют абсолютно неразрешимый конфликт личности и рока. Одним из самых проникновенных цветаевских циклов, где развертывается этот конфликт, становится «Федра». В первом стихотворении цикла развивается любовный конфликт, связанный с темой неутоленной страсти, которая дается в стихотворении практически в физиологических координатах. Этот любовный конфликт осложняется здесь семантикой смерти и рока, что включает его в парадигму образов и мотивов, связанных с семантикой гибели.
Во втором стихотворении цикла появляются иные оппозиции, связанные с развертыванием любовного противостояния. Самую главную роль здесь играет противопоставление духа и материи, которое, заметим, решается в не традиционном для Цветаевой ключе. Конфликт здесь моделируется не за

чет того, что между телом и духом возникает неразрешимое ротивопоставление, а за счет того, что тело и дух, по мысли Цветаевой, олжны объединиться в единое целое. Именно поэтому «утоление души», юбовной жажды, предполагает прикосновение к устам:
Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадя к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста [4, с. 173].
Иная трактовка любовного конфликта, связанная с темой женственности, возникает в цикле «Земные приметы». Лирическая героиня Цветаевой здесь противопоставляет себя обыкновенной женщине, что и является основой циклического конфликта. Отметим, что такое противопоставление характерно и для ранней лирики поэта. Однако в ранних стихах оно осуществлялось через оппозицию семейственность – свобода. Говоря иначе, ранняя героиня принадлежала к романтическому вольному миру, а «обыкновенная» женщина связывалась с миром семейного уюта. Здесь же это противопоставление осуществляется по иному принципу: героиня парадоксально наделяется признаком «мужественности», именно поэтому разрешение любовного конфликта в этом стихотворении происходит через уход подразумеваемого героя от «вечных женственностей» к «мужественной подруге»:

Но может, в щебетах и в счетах
От вечных женственностей устав – И вспомнишь руку мою без прав И мужественный рукав.
Уста, не требующие смет, Права, не следующие вслед, Глаза, не ведающие век, Исследующие: свет

от
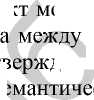
Этот конфлик скрытого конфликт героиня снимает утв Интересен сам се конфликтов, их плав о поливалентности ру оявление во втором стихотворении цикла красотой и рукотворностью, который лирическая дением о том, что «Венера – дело рук…» [4, с. 119]. ский механизм взаимодействия этих типов перетекание друг в друга, что еще раз свидетельствует юбовного конфликта, которой отличаются не только
циклы, но и отдельные стихотворения поэтессы.
В третьем стихотворении была продолжена линия любовного конфликта, на этот раз любовь связывается ненавистью, что обостряет конфликтное противостояние. Об экзистенциальной напряженности и трагической безысходности любовного конфликта здесь свидетельствует мотив самоубийства – падения с высоты – который характерен для многих стихотворений Цветаевой, где возникают конфликты. Такая семантическая дистрибуция любовного противостояния свидетельствует о том, что данный конфликт не может быть гармонично разрешен, поэтому в очередной раз смерть разрубает его Гордиев узел:
Да, ибо этот бой с любовью
Дик и жестокосерд.
Дабы с гранитного надбровья
Взмыв – вдышаться в смерть! [4, с. 121]
Трагический любовный конфликт развертывается и в четвертом стихотворении цикла, однако здесь он проецируется на иные коллизии. К предыдущим противопоставлениям («любовь – ненависть», «мужское – женское»), из которых вырастало любовное противостояние, здесь добавляется оппозиция памяти и беспамятства, включение лирической героини в это противостояние обусловливает дальнейшее усложнение любовного конфликта. Оно, во-первых, мотивирует мотив страха героини не узнать своего любимого, во-вторых, мотив имплицитного противопоставления героя героини. Остановимся на последнем мотиве, ибо он раскрывает сущностную специфику любовного конфликта Цветаевой и инспирирует его трагическую неразрешимость. Противопоставление происходит по романтическому принципу: героиня оказывается способной психологически «вместить» в себя героя, и тем самым она занимает доминирующее положение в ценностной иерархии. Герой же, напротив, может оказаться «одним из
тысячи», на что указывает негативное сравнение его с «прочими»: «…чтобы в стихах // Свалочной яме моих высочеств!) // Ты не зачах, // Ты не усохI наподобье прочих» [4, с. 121].
Таким образом, данный любовный конфликт оказывается модификацией романтического противопоставления индивидуальности толпе и становится воплощением базового для картины мира Цветаевой противостоянии личности и других людей.
Практически поэмному развитию этого любовного конфликта способствует мотив границы между любящими, который вводится в стихотворении «Дабы ты меня не видел…». Его лирический сюжет заключается в том, что героиня устанавливает границу между героем и собой, при этом данный акт носит враждебно-агрессивный характер, что указывает на магическую суть таких действий. Здесь необходимо опять же вспомнить некоторые «сюжеты» из ранней лирики Цветаевой, где любовные конфликты базировались на противостоянии героини, предстающей в магическо-демонической ипостаси, герою.
Завершается цикл возвратом к теме памяти и актуализацией летейских мотивов, указывающих на трагическое разрешение ключевого для этого цикла любовного конфликта.
Подведем некоторые итоги. Итак, одна из важных особенностей воплощения лирического конфликта в творчестве М. Цветаевой заключается в том, что он является «многоуровневым»: разные оппозиции могут моделировать одинаковые конфликты и наоборот – разные конфликты могут моделироваться одинаковыми оппозициями.
Что касается многоуровневости любовного конфликта в лирике Цветаевой, то она обусловлена тем, что на исходное инвариантное противопоставление «я – другой» накладывается целая система иных, онтологических и экзистенциально-психологических, оппозиций, придающих любовному конфликту экзистенциальное измерение.
ЯР