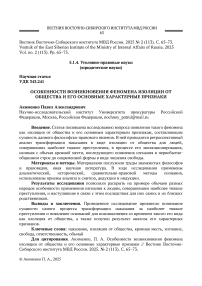Особенности возникновения феномена изоляции от общества и его основные характерные признаки
Автор: Акименко П.А.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена исследованию вопроса появления такого феномена как изоляция от общества и его основным характерным признакам, составляющим сущность данного философско-правового явления. В ней проводится ретроспективный анализ трансформации наказания в виде изоляции от общества для людей, совершивших наиболее тяжкие преступления, в процессе его эволюционирования, начиная с обычая кровной мести, последующего появления изгнания в первобытно-общинном строе до современной формы в виде лишения свободы. Материалы и методы. Материалами послужили труды знаменитых философов и правоведов, иная научная литература. В ходе исследования применены диалектический, исторический, сравнительно-правовой методы познания, использованы приемы анализа и синтеза, дедукции и индукции. Результаты исследования позволили раскрыть на примере обычаев разных народов особенности применения изгнания к людям, совершившим наиболее тяжкие преступления, и наступившие в связи с этим последствия для них самих и их близких родственников. Выводы и заключения. Проведенное исследование привнесло понимание сущности самого процесса трансформации наказания за наиболее тяжкие преступления и появление оснований для возникновения со временем такого его вида как изоляция от общества, а также получен результат анализа его характерных признаков.
Наказание, изоляция от общества, кровная месть, изгнание, свобода, ответственность, обычай
Короткий адрес: https://sciup.org/143184492
IDR: 143184492 | УДК: 343.241
Текст научной статьи Особенности возникновения феномена изоляции от общества и его основные характерные признаки
-
5.1.4. Criminal law sciences (legal sciences)
Original article
PECULIARITIES OF THE EMERGENCE OF THE PHENOMENON OF ISOLATION FROM SOCIETY AND ITS MAIN CHARACTERISTIC FEATURES
Pavel A. Akimenko
Introduction. The article is devoted to the study of the issue of the emergence of such a phenomenon as isolation from society and its main characteristic features, which constitute the essence of this philosophical and legal phenomenon. It provides a retrospective analysis of the transformation of punishment in the form of isolation from society for people who have committed the most serious crimes in the process of its evolution, starting with the custom of blood feud, the subsequent appearance of exile in the primitive communal system to the modern form of imprisonment.
Materials and Methods. The materials were the works of famous philosophers and jurists, and other scientific literature. In the course of the research, dialectical, historical, comparative legal methods of cognition were applied, methods of analysis and synthesis, deduction and induction were used.
The Results of the Study using the example of the customs of different peoples, they allowed us to reveal the specifics of the application of exile to people who have committed the most serious crimes, and the consequences that this has caused for themselves and their close relatives.
Findings and Conclusions. The conducted research brought an understanding of the essence of the process of transformation of punishment for the most serious crimes and the emergence of grounds for the emergence of such a type of isolation from society over time, as well as the result of an analysis of its characteristic features.
Рассмотрение природы феномена изоляции от общества в силу разнообразия причин и условий невозможно без глубокого анализа сущностных особенностей и явлений, составляющих философско-правовую материю применительно к рассматриваемой проблематике, антропологических особенностей эволюционирования человеческого общества с учетом специфики комбинирования разных подходов, свойственных известным типам правопонимания. При этом целесообразно использовать социально-нравственный инструментарий дабы как можно лучше исследовать указанный феномен.
Как известно, неисполнение установленных правовых предписаний, которые на первоначальном этапе развития общества могут быть выражены в форме обычаев, традиций, обрядов, а впоследствии – законодательных актов, влечет за собой ту или иную меру ответственности в виде определенного и строго установленного вида наказания. При этом важно отметить, что право наказания не является правом одного, а всех граждан или суверена. Так, отдельный гражданин может отказаться только от принадлежащей ему части права, но он не может сделать недействительным ту его часть, которая принадлежит другим [1, с. 340].
Необходимо учитывать, что изоляция человека от общества на всех этапах своего развития является одной из крайних форм наказания для преступника и назначается в зависимости от тяжести совершенного им противоправного деяния, но, бесспорно, за наиболее тяжкие из них.
Первоначально зададимся вопросом о том, какова же природа происхождения изоляции от общества (в контексте социальной изоляции человека) и что она, в целом, из себя представляет?
В соответствии с академическим толковым словарем по социологии: изоляция – это обособление, уединение индивидов или социальных групп и характеризуется минимум социальных контактов и максимум социальной дистанции по отношению к остальным членам обществ а1.
Согласно толковому словарю С. И. Ожегова изолировать – значит отдалить от других, лишая общения с кем-то, а также лишить свобод ы2.
Исходя из толкового словаря Д. Н. Ушакова, изоляция представляет собой разобщенность с другими, изолированное положение от други х3.
Таким образом, мы видим, что изоляция человека от общества всегда связана с так называемым «отторжением» конкретного лица от определенной совокупности людей (всего общества в целом или большей его части). При этом логическим путем можно прийти к выводу о том, что изоляция бывает, как добровольной, так и недобровольной, то есть принудительной. Другими словами, изоляция от общества может быть насильственной либо ненасильственной. Не вдаваясь в исследование добровольной (ненасильственной) изоляции, которая нас в данном контексте мало интересует (в качестве яркого примера можно привести монахов-отшельников), сразу перейдем к анализу принудительной (насильственной) изоляции человека от общества, которая, как уже было указано выше, применяется в качестве наказания за наиболее тяжкие преступления.
Рассматривая изоляцию от общества в этой плоскости, не возникает сомнения в том, что кто возмущает общественное спокойствие, кто не повинуется законам, то есть строго установленным условиям совместного общежития, совершая подобного рода деяния, тот должен быть исключен из общества, то есть изгнан. По-видимому, изгнанию должны подвергаться обвиненные в наиболее тяжких преступлениях, виновность которых весьма вероятна, но не доказана безусловно. Но для этого необходим закон, исключающий всякий произвол и возможно более точный нежели обычай. Этот закон осуждал бы на изгнание того, кто поставит нацию перед роковым выбором: или ей испытывать страх перед ним, или же заставить его самого страдать, не лишая, однако, связанного права доказывать свою невиновность. При этом должны быть более важные основания для изгнания соотечественника, чем иностранца, для изгнания впервые обвиненного, чем обвинявшегося несколько раз [1, с. 297-299].
С целью лучшего понимания самого процесса совершенствования формы, в которую облекается изоляция от общества, обратимся к научной позиции, изложенной во взглядах Ф. К. Савиньи, согласно которой право в своем историческом развитии проходит три этапа. Первоначально право возникает в сознании народа как «природное право». Это право всегда имеет национальную специфику, подобно языку и политическому устройству любого народа. Являясь простым по своему содержанию, это право реализуется при помощи очень наглядных символических действий, которые выступают основанием возникновения и прекращения правоотношений. С развитием народной культуры усложняется и право, оно начинает обособленно жить в сознании юристов – так появляется научное право. Юристы выступают не творцами права, а лишь выразителями народного духа. Они вырабатывают юридические понятия, обобщая то, что уже возникло на практике. Последний этап в развитии права – это стадия законодательства. При этом юристы подготавливают законопроекты, облекая в форму статей закона то, что уже произведено народным духом [2, с. 372].
Таким образом, изоляция преступника от общества изначально использовалась в качестве наказания за строго определенные наиболее общественно опасные противоправные деяния на основе неписанного обычая (традиции), выработанного как норма поведения в связи с накопленным опытом общежития на протяжении длительного эволюционного пути развития человечества, а затем уже при возникновении государства в ходе сложного законотворческого процесса была облечена в форму уголовного закона.
Представляется, что в самом начале изоляция отдельного индивида от общества (в то время определенной социальной группы – общины) зародилась на историческом этапе возникновения первобытно-общинного строя, где таким образом за наиболее опасное девиантное поведение наказывался человек (соплеменник). Данный вид наказания со временем заменил собой причинение смерти в результате кровной мести и следовал только за самые тяжкие, если их так назвать применительно к тому историческому этапу, преступления. Вне общины человеку выжить было практически невозможно, исходя из того уровня развития производственных сил. Поэтому указанный вид наказания почти гарантированно обрекал нарушителя на верную смерть, поскольку человек один на один оставался с окружающим его агрессивным миром без каких-либо средств для выживания, а главное без взаимной помощи и так называемой правовой защиты со стороны своей общины применительно к существовавшей на том историческом этапе специфике правосознания. В связи с чем совершенно справедливым для того времени является утверждение М. Т. Цицерона о том, что вне семьи, гражданской общины, государства люди существовать не могут [2, с. 57-58].
У разных народов в исторической ретроспективе существует множество наглядных тому примеров. Приведем лишь некоторые из них.
Так, род является первоначальной ячейкой правовой защиты и представляется замкнутой средой, объединенной взаимной порукой кровной мести. Здесь каждый отвечает за всех и все за каждого.
При этом род имеет и другую – внутреннюю сторону. Это «замиренная среда». Она характеризуется тем, что здесь нет ни правовых отношений, ни правовой защиты. Это область первобытной нравственности. Предполагается, что здесь не может происходить никаких грубых нападений друг на друга, так как и экономические условия, и брачные также, как и семейные отношения, не дают для этого никаких поводов.
У древних римлян и германцев, также как у скандинавов, убийцы своих родичей изгонялись из рода. Общее мнение уподобляло их волкам, бродячим в одиночестве, которых каждый мог убить безнаказанно.
Старое русское право знает подобного рода людей, исключенных из родового общества за совершенные ими преступления. Это так называемые «изгои».
Древнее исландское право устанавливает подобное наказание (в сборнике Грагас) за тяжелые преступления. Замечательно, что здесь мы встречаем уже ссылку в качестве некоторым образом следующей ступени смягчения – изгнания. Согласно обычаям Грагаса: «Изгнанник отлучен от церкви и выброшен из общества. Имуществе его конфисковано, брак расторгнут, и личность его ничем не защищена от нападения первого встречного (охелги). Никто не вправе дать ему убежище или способствовать побегу его за границу. Даже за границей всякий исландец может безнаказанно убить его. Ему остается скитаться в лесу или на горе и сделаться обезьяною, пока ни не умрет от нищеты или пока не падет под ударами своих преследователей».
Сам изгнанник мог убить другого изгнанника и тогда он получал смягчение своего наказания, которое превращалось на первый раз в вечную ссылку, а потом – в срочную ссылку. За третьим убийством изгнанника следовало полное помилование. Этим же способом друзья или родные изгнанника могли облегчить его участь, представив, куда следует, голову другого проскрипта.
Кровному возмездию подлежит вся семья виновного заодно с ее имуществом, движимым и недвижимым. Но во всяком случае, и это уже громадный прогресс, – родичи отказываются от непосредственной мести и сохраняют преступнику жизнь. Известным вознаграждением за этот отказ здесь является присвоение определенной части имущества изгнанного оставшимися на месте членами рода. Еще один шаг вперед достигается назначением известного срока изгнания и, наконец, разрешением ему пребывать среди своих соплеменников в качестве отверженного, обозначенного позорным знаком – повязки из камней, которую абреки носят на Кавказе.
Переход от изгнания к каким-нибудь иным способам возмездия, заменяющим собой частную войну, был возможен только при наличности каких-то третьи лиц, посредников или третейских судей, которые являются в истории права следующей ступенью после прямой родовой мести [3, с. 62-67].
Поэтому не вызывает сомнений то обстоятельство, что изоляция правонарушителя от общества (его изгнание) была относительно гуманнее, чем та же казнь на глазах у соплеменников, поскольку в последнем случае это еще и воспринималось в качестве «позора» для членов его семьи (рода). При этом представляется, что такое изгнание в какой-то исторический момент времени эволюции социума заменило варварский обычай всем известной кровной мести (талион), которая могла длиться бесконечно долго и тем самым поставить под угрозу существование всей общины людей в целом путем нескончаемых междоусобных расправ.
В данном случае естественное право, как и право вообще, необходимо предполагает принцип равного воздания за равное. Однако в ходе своего эволюционирования цивилизация видоизменила и смягчила грубые формы выражения талиона как принципа равного воздания за причиненное зло, но сам этот принцип присущ любому праву. При этом с точки зрения гуманизации наказания речь должна идти о поисках более точных и возможно мягких форм выражения этого эквивалента – в соответствии с исторически достигнутым реальным уровнем развития общества и его правовой культуры, характером нравов и общественного сознания, состоянием и динамикой преступности и т.д. [4, с. 629-630].
Продолжая анализ такой категории как изоляция от общества, безусловно, у разумного человека на подсознательном уровне всегда изначально существуют общие представления о естественноправовых началах, являющихся базисом для данной категории и касающихся дифференциации свободы от несвободы, добра от зла, а также справедливого от несправедливого.
Полагаем, что доминирующая причина изоляции от общества связана непосредственно с одной из обозначенных выше философских категорий как причиненное непосредственно правонарушителем потерпевшему зло. При этом в результате попытки гносеологической интерпретации, согласно превалирующей точке зрения, зло представляет собой метафизическую субстанцию, присущую самому бытию, которая наряду с понятием добра лежит в основе мироздания. В связи с чем рассмотрение субстанций зла и добра выходит за пределы исследования обозначенной тематики, поскольку только в весьма ограниченной степени связано с феноменом изоляции от общества. Тоже самое можно сказать и о приведенных выше категориях справедливого и несправедливого.
Продолжая рассмотрение феномена изоляции от общества, мы неизбежно сталкиваемся с тесно связанной с ней категорией свободы и соответственно ее антиподом в виде несвободы. При этом представляется, что существование такой метафизической субстанции как свобода уже само по себе свидетельствует о ее противопоставлении несвободе, то есть применительно к данному контексту изоляции от общества. В связи с чем само осознание важности свободы воспринимается человеком как абсолютная ценность бытия, что является одной из причин страха перед возможностью ее потерять путем наложения наказания в виде изоляции от общества.
Поэтому потребность в свободе глубоко заложена в человеке, она имманентна любому виду его деятельности, связана с самой сутью природы человека как существа, свободно выбирающего между различными альтернативными моделями поведения. Совершенно верно отмечено, что человек обладает не полной, раз и навсегда обретенной свободой, а лишь определенной ее «мерой», которая является зависимой и переменной величиной [5, с. 658].
При этом важно отметить, что всякое следствие из какого-нибудь основания необходимо, и всякая необходимость есть следствие из какого-нибудь основания. Однако, если принять безразличную свободу воли, то ближайшим, само это понятие характеризующим следствием, которое поэтому надо установить в качестве его отличительного признака, явится то, что для одаренного этой волей человеческого индивидуума, при данных, вполне индивидуально и во всей полноте определенных внешних обстоятельствах одинаково возможны два диаметрально друг другу противоположных поступка.
Вместе с тем, все поступки детерминированы и никогда не бывают безразличными, ибо всегда имеется основание, склоняющее, хотя и не принуждающее, к такому, а не иному действию.
При этом наше поведение всегда касается возможности действовать согласно с волей: но это и есть с самого начала установленное нами эмпирическое, исконное и общераспространенное понятие свободы, по которому «свободный» означает «сообразный с волей». Такая свобода безусловно удостоверяется самосознанием, где самосознание свидетельствует о свободе действия при допущении хотения, тогда как здесь речь идет о свободе хотения.
Зависимость нашего поведения, т.е. наших телесных действий от нашей воли, пропускаемого через самосознание, есть не что иное, нежели независимость наших волевых актов от внешних условий, под которой понимается свобода воли и о которой самосознание ничего не может нам сообщить: она вне его компетенции, так как касается причинной связи между внешним миром (данным нам как осознание других вещей) и нашими решениями. При этом самосознание не может судить об отношении того, что лежит совершенно вне его сферы, к тому, что находится в его пределах [6, с. 50-51, 55].
В связи с чем категория свободы непосредственно связана с личностью человека, с его свободной волей, определяемой совокупностью морально-нравственных ценностей и поведенческих установок. При этом вся жизнедеятельность человека напрямую подчинена внешним обстоятельствам окружающего его мира, которые в своем комплексе в той или иной степени оказывают на него воздействие и поэтому ограничивают возможности человека в реализации желаний и следующему за этим поведению, в результате чего человеческая воля не может быть до конца свободна, находясь в определённых границах необходимости, опосредованной окружающим его миром.
Таким образом, на основании проведенного анализа полагаем, что фактическое изгнание человека из общины, то есть его изоляция от общества, была частью ритуала, который включал в себя строгое соблюдение существовавших на определенном историческом отрезке времени обычаев и традиций, без соблюдения которых та или иная социальная группа просто была обречена на гибель, поскольку именно при помощи наказаний в общине поддерживался необходимый уровень порядка во взаимоотношениях между ее членами с целью повышения их совместной выживаемости и дальнейшего процветания рода. В процессе развития общества и соответственно общественных отношений (в дальнейшем – правоотношений) изоляция преступника от общества стала совершенствоваться и приобретать новые организационные формы, например, в виде таких наказаний как заключение в острог (крепость), а впоследствии и лишение свободы на определенный срок или бессрочно, тем самым произошел генезис самой категории изоляции от общества из социальной в правовую. Представляется, что развитие системы наказаний применительно к такому важному их составляющему виду как изоляция от общества по большому счету носило больше функциональный нежели сущностный характер, при этом в последнем случае это применимо сугубо к изучению природы данного феномена.