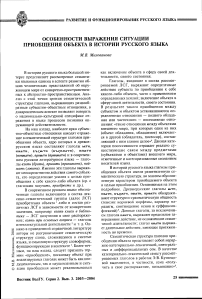Особенности выражения ситуации приобщения объекта в истории русского языка
Автор: Милованова М.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 3, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14969123
IDR: 14969123
Текст статьи Особенности выражения ситуации приобщения объекта в истории русского языка
В истории русского языка большой интерес представляет рассмотрение семантики языковых единиц в аспекте развития общих человеческих представлений об окружающем мире от конкретно-пространственных к абстрактно-пространственным. Анализ с этой точки зрения семантической структуры глаголов, выражающих разнообразные субъектно-объектные отношения, в диахроническом аспекте позволяет говорить о национально-культурной специфике отражения в языке процессов познания окружающей действительности.
На наш взгляд, наиболее ярко субъектно-объектные отношения находят отражение в семантической структуре глаголов приобщения объекта, ядро которых в древнерусском языке составляют глаголы iath, НМАТН, ВЪ^ЫкТИ (вЪ^ИМАТн), П01АТИ (поимати), примети (приимАТи) и в современном русском литературном языке — глаголы взять (брать), принять (принимать), поймать (ловить). Именно эти глаголы выражают непосредственно действия самого субъекта, его определенные усилия с целью приобщения к себе какого-либо объекта (ср. с глаголами получить, приобрести и др.).
В современном русском языке обозначенные глаголы включаются в состав лексико-семантической группы (далее ЛСГ) приобретения объекта 1 либо в состав различных ЛСГ в зависимости от конкретного значения, например: взять книги в библиотеке — ЛСГ получения в свое распоряжение; взять три основных вопроса — глаголы интеллектуальной деятельности 2 и т. д. Однако в приведенной справочной литературе авторы не разграничивают семантическую структуру слова, сложившуюся в системе языка, и смысловую структуру словоформы, функционирующую в контексте 3. Более точным, на наш взгляд, следует признать термин «приобщение», поскольку объект при анализируемых глаголах может быть как неодушевленным, так и одушевленным и ситуация приобщения может реализовываться как включение объекта в сферу своей деятельности, своего состояния.
Глаголы, входящие в состав рассматриваемой ЛСГ, выражают определенные действия субъекта по приобщению к себе какого-либо объекта, часто с применением определенных усилий; включение объекта в сферу своей деятельности, своего состояния. В результате такого приобщения между субъектом и объектом устанавливаются определенные отношения — полного обладания или частичного — посессивные отношения: «такие отношения между объектами внешнего мира, при которых один из них (объект обладания, обладаемое) включается в другой (обладатель, посессор), составляющий с ним единое целое»4. Данная категория посессивности отражает реально существующие связи между предметами (субъектами и объектами) внешнего мира, отмеченные и категоризованные сознанием носителей языка.
В истории русского языка глаголы приобщения объекта имели разветвленную семантическую структуру, во многом обусловленную характером приобщаемого объекта и целью приобщения. Остановимся на этом подробнее. Древнерусские глаголы меги, имати, въ^меги, поьхти, примкти обнаруживают структурно-грамматическую общность (генезис корневой морфемы, характер парадигм, соотношение основ и суффиксов-флексий) 5. Данные глаголы, за исключением глагола имати, выражают предельное завершенное действие, не осложненное семантикой длительности; глагол имати выражает длительное действие, имеющее протяженность во времени.
Семантическая структура глаголов приобщения объекта представляет собой иерархию категориально-лексической, интегральных и дифференциальных сем. В качестве категориально-лексической семы у рассматриваемых глаголов в работах Э.В. Кузнецовой выделяется, в частности, сема «получить в свое распоряжение, пользование»6.
Однако мы понимаем ситуацию приобщения более широко и относим также к ней случаи включения субъектом объекта в сферу совместной деятельности, совместного состояния.
Категориально-лексической семой анализируемых глаголов, объединяющей их в рамках одной ЛСГ, мы считаем сему «приобщение объекта к сфере субъекта». Данная сема может быть реализована в таких интегральных признаках, как «характер», «средства», «степень» и «интенсивность» приобщения объекта. Эти семантические признаки, в свою очередь, могут реализовываться в более конкретных дифференциальных семах. При этом в качестве релевантной интегральной семы в семантической структуре рассматриваемых глаголов выступает сема «характер приобщения объекта», поскольку именно ее реализация позволяет говорить о специфике отражения в семантике глаголов различных субъектно-объектных отношений.
Субъект при всех рассматриваемых нами глаголах (древнерусских и современных) характеризуется как активный, конкретный, одушевленный. Релевантная интегральная сема «характер приобщения объекта» представлена в семантической структуре глаголов по-разному. Так, в семантической структуре бесприставочного глагола меги данная сема выражена как «принудительное включение объекта в сферу субъекта», данное действие можно охарактеризовать как интенсивное. Объект в такой ситуации может быть как одушевленным, так и неодушевленным. Примеры с одушевленным объектом: и ^д влд с та имъше таки пь^ающе влдудхоути [Усп. сб., 44620]7; иметь ^д лоно ДрОуГАГО И рО^ДАВИТЬ; И ИСКААХЖ Иоудеи меги и и никъто же не въ^ложи ржк'ы на нь [Сл. Ср., III, 1669—1670]. Как свидетельствуют приведенные примеры, для приобщения одушевленного объекта, который является также и активным, субъект должен применить определенные усилия, чтобы подчинить объект своей воле (ср. существительное отвлеченной семантики от данного глагола (атик — захват в плен). В такого рода случаях, когда приобщаемый объект выражен одушевленным именем существительным, обозначающим взрослое существо, способное оказывать сопротивление субъекту действия, можно говорить об активности объекта. Встретился единичный случай, когда объект при глаголе меги имеет пассивный характер:
и имъ по роукоу сльпца и^веде и вънъ вьси [АМ,100в11]. В данном случае выражена особая ситуация приобщения объекта, когда объект не способен к самостоятельным действиям, не может оказывать сопротивления и поэтому также подчиняется воле субъекта. При этом отмечается разнообразие средств, используемых субъектом для приобщения объекта (интегральная сема «средства приобщения объекта»). Это может быть приобщение с помощью рук: и^биша Литв-ы ЮОмуЖЬ А ННЪ1ХЪ рукдмн ЯША [Сл. Ср., III, 1670]; приобщение с помощью специальных средств: ятъ во бФ дв^мд копьемд конь под нимъ, а третьим в передни лукт» в с'Ьделн'ыи [Сл. Ср., III, 1670].
Близкий глаголу iath глагол иматн обнаруживает специфику при реализации указанной интегральной релевантной семы, которая также выражена как «принудительное включение объекта в сферу субъекта», но при этом действие характеризуется как длительное, например: а где вудетъ кня^ь ЛАпулило вослдлъ въ наши отуину въ великое княженье нам'Ьстники или волостели, и т'ыхъ НЪ1 СОСЛАТИ ДОЛОЕЬ, А Н6 ПО’ЬдуТЪ, И НАМЪ ИХЪ имати [Сл. Ср., II, 1092]; и пов±гоша людье и^ъ грддл и повел*Ь ДОльгд воемъ своим имати е [СДРЯ, III, 145]. В данных примерах речь идет о приобщении субъектом активного одушевленного объекта, с помощью глагола имати подчеркивается длительность действия. Однако объект при глаголе имати может иметь и неодушевленный характер, причем такие случаи многочисленны (в роли объекта выступают разнообразные существительные дань, оброк, пошлина и т. п.): имдуу ДАНЬ ВдрА^И и^ъ ^дморыа НА Угоди; А онъ у ВАС!» ВбЛИТЪ ПОШЛИНЪ! ИМАТЬ Т!уну своему [Сл. Ср., II, 1092]. В приведенных примерах приобщение объекта также можно охарактеризовать как принудительное, поскольку в ситуации участвует второе лицо, которое отдает объект не по своей воле.
В семантике префиксальных производных образований также нашли отражение разнообразные субъектно-объектные отношения. Рассмотрим близкие по значению глаголы въ^1Ати, помети, примети, образованные от глагола мети, и въ^имати, поимдти, принмдтн, образованные от глагола имати. Производные глаголы, как и производящие, тяготеют либо к совершенному, либо к несовершенному виду. Префиксы не вносят изменения в их видовую семантику, но способствуют появлению некоторых различий.
Так, исходным значением префикса въ^- было представление о направленности действия вверх8, но потом это значение утратилось. Ф.И. Буслаев, говоря о приставках въз-, воз-, вз-, указывал, что в древнейшую эпоху это был предлог, который «отдельно употреблялся и в церковнославянском, и в прочих славянских наречиях... В сербском и доселе отдельный предлог уз (възъ- или воз-) имеет значение места, например уз брдо — на гору»9. В семантике рассматриваемого глагола bt^iath данное значение отмечается лишь в некоторых случаях, как сопутствующая характеристика ситуации приобщения объекта, например, когда для приобщения объекта субъекту необходимо произвести действие, связанное с движением вверх: въ^аша же камение нод^и да и побиють [АМ, 18в6] — в данном примере форма глагола косвенно указывает на то, что действие осуществляется с определенного уровня (снизу вверх). Помимо данного значения приставка воз- в истории русского литературного языка могла указывать также на начало действия в его интенсивном проявлении: возгреметь, восхотеть (ср. с приставками за-, по-); воз- могла обозначать не только начало действия, но действие, возникающее быстро, вдруг, внезапно, неожиданно *°. Однако по мере развития языка данная приставка стала редко употребляться в начинательном значении, глаголы с префиксом вз- со значением интенсивного начала действия (например, взреветь) немногочисленны в современном русском литературном языке. Причиной утраты продуктивности данной приставки в начинательном значении М.А. Шелякин называет, в частности, ее пространственную природу, а также тот факт, что она придает начинательным действиям более напряженную интенсивность, чем другие приставки ".
В производном глаголе bt^iath префикс въ^- способствует более яркой выраженности семы результативности действия; пространственная природа этого префикса, по-видимому, обусловила широкую сочетаемость глагола въ^ььти с глаголами движения. Релевантная интегральная сема реализуется в семантической структуре глагола bt^iath как «взятие в руки объекта с целью дальнейших действий». Объект при этом может носить как неодушевленный, так и одушевленный характер, например: въ^аша рн^та его и сътворнша тетери удсти [АМ, 159вЗ]; въ^ьмъ колик прововоде кмоу реврА [Сл. Ср., I, 373]. В данных примерах приоб- щение неодушевленного объекта не является конечной целью субъекта действия, объект всегда приобщается с целью какого-либо последующего действия, обусловленного предыдущим. Префикс въ^- в таких случаях подчеркивает законченность, результативность действия, так как субъект далее осуществляет какие-либо действия с включенным в его сферу объектом: с целью совместного движения — в^емше оружье поидоша на нь [ПВЛ, 58]; речевой деятельности — в^яша у него ^лата 50 гривен peve [ПВЛ, 58]; физического воздействия на кого-либо — ВЪ^ЬМЬ НОЖЬ ОБр^А пьрси ея [Усп. сб., 139а21]. В отличие от глагола iath, который выражает включение одушевленного объекта в сферу субъекта против воли, глагол въ^ььти может выражать данное значение по отношению и к неодушевленному объекту (в роли которого выступают какие-либо географические объекты): и грддъ в^аша..; прнде Володнмеръ и в^а Придукъ [СДРЯ, 2, 149]. Однако такие случаи характеризуются нами в рамках переносного употребления глаголов.
Примеры с одушевленным объектом при глаголе въ^ьдти немногочисленны: въ^ьмьши же БДАжендя -О'еодорд д'Ьтишть ид лоно свое ловъ^д же [Изб. 1076, 112.7]; и виде ОТрОУА ПЛАУЮЩИСЯ, И В^Я И ПОЩАД'Ь, И НАрбУб имя ему Моисеи [ЛН, 34об]; math же в^емши млдденець, вложи и в кАрдвицю и несъши постдви и в лу^ [ПВЛ, 66]. В результате особой представленности в семантической структуре данного глагола релевантной интегральной семы в качестве одушевленного объекта отмечены имена существительные, обозначающие невзрослое существо (ребенка).
Производный от имати глагол въ^имдти обнаруживает большую близость с глаголом въ^ььти. Как и у производящего глагола, у въ^нмати отмечается две парадигмы (въ^кмлю, ВЪ^КМЛбТЬ И ВЪ^ИМАЮ, въ^имдеть). В реализации релевантной интегральной семы «характер объекта» обнаруживается сходство с глаголом въ^ььтн, однако сема дальнейшего действия с приобщенным объектом, как правило, не выражена. Это, по-видимому, объясняется тем, что глагол въ^имати выражает прежде всего длительное действие: И по три въ^кмлють уашкъ! кром’Ь соувотъ! въ вьсь постъ; И ТАКО И^НДАШе И^ MOHACTUpA В^НМАГА МАЛО ковр!жекъ [СДРЯ, И, 60]. Как свидетельствуют примеры, объект имеет неодушевленный конкретный характер, при этом парадигма типа въ^кмлю отмечена, в основном, в контекстах с неодушевленным абстрактным объектом (переносное употребление).
Производный от глагола м»ти глагол помути также обнаруживает специфику. Первоначально префикс по- был результативным префиксом и выражал локальные отношения. Однако постепенно локальная характеристика у данного префикса отдвига-ется на задний план, а вперед — оттенок, связанный с ограничением действия во времени, с обозначением его начинательного момента 12. В древнерусском языке (и это сохранилось в современном русском языке) префикс по- выражал значение начала действия в сочетании с глаголами движения, психического состояния, чувства и т. д. (побежать, полюбить). Однако, в отличие от приставки воз-, по- не вносит в значение начала действия оттенок интенсивности, внезапности, неожиданности. В качестве основного значения префикса по-, например, О.И. Дмитриева указывает дистрибутивное, когда глаголы с данным префиксом выражают значение многоактного, иногда даже поочередного действия, распространяющегося на все или многие объекты |3. Таким образом, префикс по- вносит свои оттенки в семантическую структуру глагола поьхтн. Так, релевантная интегральная сема реализуется в семантической структуре глагола помути как «включение объекта в сферу совместных действий», при этом объект носит одушевленный характер: они же овЕщдшлсга поати и ст» собою и допровдднтн и до сттяхъ лгкстъ; Гюрги же пойма Ростислава и володимера и Ярослава и Гллнуьскую помощь и иде..; поемъ л\а и въведе вт» силтарк [Сл. Ср., II, 1341]. Известно, что для древних русичей из всего многообразия действий огромное значение имели действия субъекта, связанные с его перемещением, передвижением в пространстве. В приведенных примерах субъект приобщает к себе одушевленный объект (объекты) с целью совместных действий, глагол употреблен в значении «взять с собой»; данный глагол часто употребляется, когда речь идет о военных действиях, походах и т. п. Значение «взять с собой», выражаемое глаголом hoiath, может быть также и интенсивным, исходя из конкретной ситуации («взять с собой — поймать»): и пояша муж 30 вятьшиу и тЕу иссЕкошл [ЛН, 120об]; аще ускомит усладинъ да понмуть и [Сл. Ср., II, 1341]. Глагол пом»ти закрепился также в древнерусском языке в устойчивом сочетании пом»ти женЕ (жен#) — жениться: жен# погауъ и сего ради не могж прити; Микнтка тое дЕвку Уернавку понгалъ ^а севя [Сл. Ср., II, 1341].
Глагол длительного действия поимати также представлен двумя парадигмами (поймаю и покмлю). Как и в случае с производящим глаголом нмати, объект при глаголе поимати может иметь как одушевленный, так и неодушевленный характер. Если объект имеет неодушевленный характер, глагол употребляется в ситуации, когда субъект приобщает к себе объект, принудительно отчуждая его от лица, участвующего в ситуации (аналогично употреблению глагола нмати), например: товаръ иут» всь отняли и кони, и на самъ1уъ окупъ поимаше; аже кто вЕжа, а локмлеть yto соусЕдне или товара», то гноу платнти ^а нь оурокт» [Сл. Ср., II, 1094]. В случае, если объект имеет одушевленный характер, ситуация приобщения может быть реализована аналогично глаголу нмати (действие имеет принудительный характер): оувнша нут» а жен-ы нут» и дЕтн понмаша [СДРЯ, VI, 583]; в^я Ыижнш Новъгородт» и пойма кта^Ен и княгинь в таль [Сл. Ср., II, 1095], либо аналогично глаголу по меги (совместные действия субъекта и объекта): Едоу господине до Осуждали женить(с) а со собою поймаю не много людии [СДРЯ, VI, 584]. Во всех случаях подчеркивается длительность действия. Таким образом, глагол поимати обнаруживает близость как с производящим глаголом нмати, так и с noiATH, тяготеющим к совершенному виду.
Последним в приведенном нами синонимическом ряду является глагол примети. Префикс при-, как и вт»^-, по- был довольно употребительным в древнерусском языке и выражал значение приближения, присоединения, приобретения, то есть значения пространственной близости, локальные отношения (например приуоднти, приводити, приоврЕсти и др.). Данное значение приближения отмечено и у глагола примети. Именно значение префикса при- во многом обусловило реализацию релевантной интегральной семы в семантической структуре указанного глагола как «приближение к сфере субъекта». Таким образом, данный глагол выражает включение объекта в сферу субъекта посредством приближения (ср. сочетания в современном русском языке принять мысли, взгляды и т. п.). При этом приобщаемый объект может иметь как неодушевленный, так и одушевленный характер. В большинстве случаев объект является одушевленным: и прияшд И НОВОТОрОЖЬЦН СЪ ПОКЛОНОМЬ н ждляху по немь [J1H, 58]; и иде с передними мужи и прия и с любовью кня^ь Святослав [ЛН, 52об]; Аврама же прията и радуяся в кущю свою [Сл. Ср., II, 1504]. В отдельных случаях объект может иметь неодушевленный (конкретный) характер, такие контексты во многом перекликаются со случаями употребления глагола въ^ьлти, например: пригдтъ же хлТбъ1 Икъ и \валж въэдакъ, дасть оууеникомъ; npiHMT уашю вина, хвалу въ^давт, peve; всь сустава манаст'ырьск'ыи испксавъ и посълавъ... -О-есидосию и кго же приимт»... повел'к поуисти предт. вратикю [Сл. Ср., II, 1502—1503]. Однако в данном случае (в отличие от глагола вт^мгги) в ситуации приобщения всегда присутствует второе лицо, участвующее в ситуации, которое добровольно передает объект субъекту (в качестве объекта, как правило, выступают значимые и ценностные для древнего русича предметы). Весьма интересен также встретившийся случай, когда при глаголе примети в качестве объекта зафиксировано существительное градъ (ср. въ^яти градъ). Приведем макроконтекст: Половци воеваша много... и и^немогоша людье въ граде гладомъ и преддшдся ратнъ1мъ, половци же, приимше градъ, ^апалиша и огнем [ПВЛ, 69]. В данном случае в контексте употреблен глагол примети, а не въ^метн, поскольку город субъекту отдали добровольно, в случае же въ^яти градъ субъекту, как правило, оказывают сопротивление. Таким образом, в ситуации приобщения неодушевленного объекта, выраженной глаголом примети, принимает участие второе лицо.
Глагол длительного действия приимати, производный от имдти, может указывать на ситуацию приобщения как неодушевленного, так и одушевленного объекта. Однако в прямом значении в ситуации приобщения отмечен только одушевленный объект. В данном случае релевантная интегральная сема представлена как «приближение объекта к субъекту, включение его в сферу субъекта», причем субъект это делает осознанно: ПрИИМДХУ врата в мд^т'ырь с радостию [Сл. Ср., II, 1404].
В процессе функционирования глаголов в тексте в их смысловой структуре происходят различные изменения, переосмысление интегральных и дифференциальных признаков, во многом обусловленные осо- бенностью их семантической структуры. Изменениям в смысловой структуре рассматриваемых глаголов способствует прежде всего характер приобщаемого объекта. Переносные значения анализируемых глаголов требуют специального рассмотрения, поэтому остановимся лишь на отдельных случаях. В смысловой структуре бесприставочных глаголов мети, имдти отмечены прежде всего деривационные изменения 14, обусловленные абстрактным характером объекта. При этом при глаголе меги отмечен объект интенсивного характера (дрожь, тьма): дрожь иметь и огнь рджьжеть [Сл. Ср., III, 1670]; при глаголе имдти отмечены сочетания, в которых основную смысловую нагрузку несет существительное, обозначающее объект: имдти мир, имдти в'кру. В таких случаях происходит переосмысление интегральных, дифференциальных сем и, как следствие, категориально-лексической семы, глагол выражает какое-либо состояние субъекта. Глаголы въ^ььти, въ^имати, примети, приимдти также зафиксированы в сочетаниях, где объект имеет неодушевленный абстрактный характер. При этом разнообразие и частотность таких объектов отмечены при глаголах примети, приимдти: похвала, весть, ответ, страх и др., речь в таких контекстах идет о духовной сфере субъекта, об изменении его состояния: от него радость прнясте и отидете въ своя си [Усп. сб., 247а10]. В смысловой структуре глаголов помети, поимати отмечены немногочисленные случаи изменений, например, встретились контексты, где в роли субъекта действия выступает вода: БЪ1СТЬ ВОДА велика И СИЛНА З'ЬлО А въ Нов-Ьгород'к много города водд поятъ [Сл. Ср., II, 1342]; в смысловой структуре глагола происходят деривационные изменения, глагол употребляется в значении «затопить».
В истории русского языка ЛСГ глаголов приобщения объекта не осталась неизменной. Вся система древнерусского языка претерпела изменения, поэтому утрата одних форм и сохранение других было обусловлено целым комплексом причин и отражением в семантике языковых единиц дальнейшего опыта познания окружающей действительности. Так, парадигма глагола меги утратилась, от него сохранились лишь префиксальные образования, выражающие различные действия в рамках совершенного вида (взять, принятье др.). В качестве видовой пары у глагола взять закрепился глагол брать, имеющий с ним в современном рус- ском языке одно лексическое значение, в древнерусском языке глагол вьрдти выражал действие, тяготеющее к несовершенному виду, однако употреблялся преимущественно в значении «собирать что-либо»: Главки стбклянъ1и... подл'Ь Вълховъ всруть [Сл. Ср., I, 168]. Глагол взимать, сохранившийся в современном русском литературном языке, имеет достаточно узкое значение и употребляется в случае официального общения, если речь идет о возмещении чего-либо (взимать штрафу От глагола имлти сохранились лишь префиксальные образования несовершенного вида в качестве видовой пары соответствующим образованиям от ьати (принимать — принять, отнимать — отнять). В современном русском языке сохранились также образования с корнем -емл’- (производные от нматн), которые имеют книжную стилистическую окраску и употребляются преимущественно в художественных текстах: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...» (А.С. Пушкин). Что касается глаголов поьатм, понмлти, сохранилась форма поймать (от глагола поыкти), однако в более узком значении, в качестве видовой пары закрепился глагол ловить.
Таким образом, состав ЛСГ глаголов приобщения объекта изменился, помимо утраты некоторых глаголов, в семантической структуре сохранившихся глаголов происходят различные процессы (расширение, либо сужение значения). В древнерусском языке производящие глаголы неги, нматн и производные от них префиксальные образования составляли ядро ЛСГ приобщения объекта и могли выражать различные ситуации приобщения субъектом неодушевленного, либо одушевленного объекта. При этом глаголы (и, соответственно, производные от них) восходят к общему корню i5. Для древних русичей, постоянно познающих окружающую их действительность, важнейшее место занимали субъектно-объектные отношения, связанные с различными перемещениями субъекта в пространстве. Важным оказывался прежде всего характер объекта, именно это определяло то, каким образом данный объект будет включаться в сферу субъекта. Значимость объекта и цель субъекта обусловливали различный характер действий по его приобщению. Можно выделить следующие закономерности. Если ситуация приобщения осуществлялась принудительным путем, использовались формы глаголов ьхти (одушевленный объект), имдтн
(одушевленный, неодушевленный объект). Если объект приобщался для каких-либо совместных последующих действий — формы глагола помети; в ситуации, когда приобщение объекта обусловливало последующее действие — формы глагола въ^ььтн. И наконец, включение объекта в свою сферу путем приближения его к себе с участием второго лица выражали формы глагола примети. Таким образом, в древнерусском языке в семантической структуре анализируемых глаголов находит отражение четкая структурированность различных ситуаций приобщения объекта в зависимости от значимости объекта и характера его приобщения. В современном русском языке данная структурированность находит отражение уже не в рамках глаголов, объединенных общим корнем, перед нами разнообразные глаголы, ср.: 1ати градъ — захватить, поьхтн дружину — взять с собою и т. д. Базовым глаголом становится глагол взять, имеющий в современном русском языке широкую семантику и выражающий разнообразные ситуации приобщения объекта, ср. примеры из Словаря языка А. С. Пушкина: принудительное приобщение — Басурманы взяли его в плен и продали в Цареграде... [Сл. П.,1, 275], добровольное — Я возьму тебя на турнир — ты будешь жить у меня в замке [Там же]; получение платы за что-нибудь — Сие глубокое творенье завез кочующий купец Однажды к ним в уединенье И для Татьяны наконец Его с разрозненной Мальвиной Он уступил за три с полтиной, В придачу взяв еще за них Собранье басен площадных [Там же. С. 274]; приближение объекта куда-либо — В 1723 году Татищев взят был ко двору, где и пробыл близ года и др. Таким образом, в современном русском литературном языке уже не наблюдается такой специфики выражения значений приобщения объекта в рамках глаголов с общим корнем, входящих в состав одной ЛСГ, как в древнерусском языке. Семантика глаголов приобщения объекта в современном русском языке отражает уже не специфику данной ситуации, а непосредственно сам процесс, все остальное уточняется в контексте, что во многом обусловлено поступательным развитием языка от конкретно-пространственных представлений к абстрактно-пространственным.
Предпринятый анализ ЛСГ глаголов приобщения объекта в диахроническом аспекте с точки зрения особенностей передачи различных субъектно-объектных отноше- ний позволяет проследить особенности отражения и развития в языке представлений носителей этого языка об окружающей действительности.
Список литературы Особенности выражения ситуации приобщения объекта в истории русского языка
- Лексико-семантические группы русских глаголов: Учеб. слов.-справ. Свердловск, 1988.
- Толковый словарь русского глагола: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы/Под ред. Л.Г. Бабенко. М., 1999.
- Лопушанская С.П. Развитие и функционирование древнерусского глагола. Волгоград, 1990. С. 80-81.
- Головачева А.В. Категория посессивности в плане содержания//Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989. С. 44.
- Милованова М.В. Эволюция глаголов приобщения объекта в сочетании с глаголами действия в древнерусском языке: Дис.... канд. филол. наук. Волгоград, 1992. С. 24-41.
- Кузнецова Э.В. Русские глаголы «приобщения объекта» как функционально-семантический класс слов: (К вопросу о природе ЛСГ): Автореф. дис.... д-ра филол. наук. М., 1974.
- Здесь и далее примеры даются из: Апракос Мстислава Великого/Отв. ред. Л.П. Жуковская. М., 1983 (= AM);
- Изборник Святослава 1076 г./Под ред. С.И. Коткова. М., 1965 (= Изб. 1076);
- Летопись Новгородская (первая) старшего и младшего изводов по Синодальному списку XIII-XIV вв./Под ред. А.Н. Насонова. М., 1950 (= ЛН);
- Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г./Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М., 1950 (= ПВЛ);
- Успенский сборник XII-XIII вв./Под ред. С.И. Коткова. М., 1971 (= Усп. сб.);
- Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893. Т. I; 1895. Т. II;
- Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.): В 10 т./Гл. ред. Р.И. Аванесов. М., 1989. Т. II; 1991. Т. IV; 2000. Т.VI (= СДРЯ),
- Словарь языка АС. Пушкина: В 4 т. М., 1956. Т. I (= Сл. П.).
- Самохвалова Е.И. Функции глагольных приставок в Лаврентьевской летописи: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Л., 1953. С. 13-14.
- Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Братислава, 1960. Ч. 2;
- Тихонов А.Н. Способы выражения начинательного значения глаголов в русском языке//Труды Узбекского ун-та. Самарканд, 1959. № 95. С. 135-160.
- Шелякин М.А. Функции и словообразовательные связи начинательных приставок в русском языке (к проблеме семантической мотивированности в синтагматике слов и морфем//Лексико-грамматические проблемы русского глагола. Новосибирск, 1969. С. 25.
- Дмитриева О.И. К вопросу о сочетаемости глагольных основ с приставками (на материале древнерусского языка)//Лексическая и словообразовательная семантика русского языка. Саратов, 1990. С. 47.
- О разграничении семантической модуляции и семантической деривации см.: Лопушанская С.П. Указ. соч. С. 80-81.