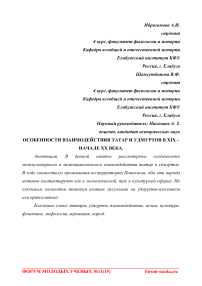Особенности взаимодействия татар и удмуртов в XIX - начале XX века
Автор: Шамсутдинова В.Ф., Ибрагимова А.И.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 11 (15), 2017 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрены особенности межкультурного и межнационального взаимодействия татар и удмуртов. В ходе совместного проживания на территории Поволжья, оба эти народа активно контактируют как в экономической, так и культурной сферах. Но ключевым моментом является влияние мусульман на удмуртов-язычников или православных.
Татары, удмурты, взаимодействие, ислам, культура, фонетика, мифология, верования, народ
Короткий адрес: https://sciup.org/140277201
IDR: 140277201
Текст научной статьи Особенности взаимодействия татар и удмуртов в XIX - начале XX века
Россия - многонациональная страна, результат длительного сложного исторического развития разноязычных племен и народностей. На ее территории проживает более 190 народов. Древнейшие культуры - финноугорские и тюркские, составляют монолит, на котором зиждется Россия. Эти народности являются удивительным примером ненасильственного, продуктивного и исторического сосуществования. Удмурты и татары, являясь носителями названных культур, с давних времен тесно взаимодействуют друг с другом – экономически, культурно, смешанные браки. Важно подчеркнуть заметное влияние татар на удмуртский народ – исламизация, традиции, обряды, мифологические образы, фонетика.
Целью данного исследования является изучение особенностей межэтнического взаимодействия народов на примере татар и удмуртов.
Взаимодействие татар и удмуртов всегда вызывали интерес исследователей. В частности, для нашей работы важное значение имеет труд Н.В. Пислегина, В.С. Чуракова1. Ими был исследован данный процесс в рассматриваемый период (ХIХ – начале ХХ вв.) На территории ВолгоУральского региона они выделяют несколько контактных зон, в которых происходило межкультурное взаимодействие татарского и удмуртского народов.
Южная контактная зона (Казанский и Мамадышский уезды Казанской губернии, Елабужский, Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии) является наиболее древней. Данная зона начала свое формирование в процессе естественного изменения границ проживания этносов соседних регионов. Это произошло еще до присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Важным отличительным знаком южной контактной зоны являются четкие этнические границы, которые отделяют народы друг от друга, а также разнообразие вариантов взаимодействия. В частности, только в данной контактной зоне «уход в татары» мог реализоваться в виде: удмурт (язычник или православный) мог стать либо татарином-мусульманином, либо крещенным татарином.
Здесь наблюдается значительное влияние татар-мусульман на удмуртов. Доказательством данного утверждения служат такие явления как: обычай празднования удмуртами пятницы, широкое распространение татарского языка, заимствования в одежде и быту, переходы в ислам. В труде «Материалы для истории христианства у вотяков в первой половине XIX века» автор, Луппов П.Н., отмечает, что удмурты говорили между собой по-татарски, роднились с татарами, «одежда, расположение жилищ, обряды, богослужение – все татарское1.
Также, воздействие мусульманской народной культуры проявлялось и в том, что удмурты-язычники почитали Акташа, а к имени верховного бога Инмара добавляли эпитеты Аляк (Аллах) и Каба (Кааба). Принесение южными удмуртами (язычниками и крещеными) в жертву лошадей современниками, в числе прочего, также объяснялось влиянием татар2.
Удмуртский этнограф Верещагин Г.Е. основными торговцами на округе называл агрызских татар: они продавали платки и ситец. Автор отмечает, что удмуртские женщины предпочитали их русским торговцам потому, они разговаривали с ними по-вотски. Знание удмуртского языка в первую очередь обеспечивало им «доверие и гостеприимство»3. Отсутствие в исламе разделения между светским и духовным позволяло воспринимать мусульманских священнослужителей не только татарам, но и другим нерусским народам края. Муллы выступали как наставники, лекари, учителя4.
Северная контактная зона (Глазовский и Слободской уезды Вятской губернии) является второй по времени возникновения. Ее появление было связано с наделением Карабека – выходца из ногаев, и его потомков землями в бассейне реки Чепцы с правом «испомещать» на них удмуртов и бесермян – выходцев из Казанского ханства. В конечном итоге данная зона стала результатом политики великих князей Ивана III, Василия III и Ивана
IV по привлечению подданных соседнего государства на собственную слабозаселенную территорию1. Северная контактная зона распадается на два микрорегиона – слободской (более ранний) и глазовский (начало XVIII в.). Здесь татарское население проживали совместно с удмуртами, в окружении бесермянами2. В зоне наоборот выделяется удмуртско-бесермянское влияние на татар: «бытование среди чепецких татар жертвоприношений в честь постройки нового строения («строительная жертва»), моления о хорошей погоде». Бедняки-татары Глазовского уезда носили похожую на удмуртскую одежду. Такие праздники, как «Рошпо», «Божо», «Мащенща-байрам», вероятно, были заимствованы из русской православной культуры через удмуртскую3.
Восточная контактная зона (Белебеевский и Бирский уезды Оренбургской, с 1865 года Уфимской губернии, Осинский уезд Пермской губернии). Данная контактная зона начала формироваться после присоединения Казанского ханства к Московскому государству и в рамках, последовавшей вслед за этим, политика насильственной христианизации народов Среднего Поволжья и Прикамья. Особенностью данной контактной зоны является долгое исповедование язычества, кроме того теснейшие связи с татарским и татароязычным башкирским населением. Значительная часть удмуртов этого региона в XIX - начале XX века перешла в ислам.
Ислам оказал большое влияние на складывание культуры удмуртского народа. Это можно проследить в верованиях и мифологии удмуртов. Под мусульманским влиянием удмурты вместо традиционных наименований душ человека до сих пор иногда употребляют термины щан (дшан – от персидского «душа») – вместо лул и кыт (кут – от тюркского «небесная благодать») – вместо урт1.
Юго-восточная или икская контактная зона (Бугульминский уезд Оренбургской губернии). Начало ее формирования относится к 40-м годам XVII века. Именно тогда наблюдается переселение удмуртов из территории Удмуртии на бассейн реки Ик, на арендованные у башкир земли. В начале XX в. здесь в нескольких селениях проживало около 3000 представителей удмуртского народа. Мусульманское влияние на них отразилось в меньшей степени, чем, например, в южной или восточной контактных зонах2.
Центральная или ижевская контактная зона (поселок Ижевского завода Сарапульского уезда). Здесь основным отличием от других зон является условие возникновения – урбанистическое. Активное взаимодействие между татарами и удмуртами здесь не велось, так как нерусское население было в довольно малом количестве. Но все же, так называемый «Татар-базар» оказал значительное влияние на развитие и культурный облик Ижевска3.
В данных контактных зонах ярко прослеживается процесс исламизации удмуртов. В конце I – начала II тыс. н. э. южный ареал расселения предков удмуртов входил в состав Волжской Болгарии. Именно здесь в Х веке древние удмурты впервые соприкоснулись с исламом. Это позволило ряду ученых прийти к выводу, что первой мировой религией, которая распространилась на территории Удмуртии, был ислам. Болгары активно взаимодействовали с пермскими финнами, в том числе и удмуртами. Это подтверждается, в частности, археологическими данными. Например, мусульманский некрополь, который был раскопан в крупнейшем центре праудмуртов, на городище Иднакар4.
Довольно сложно четко выделить процесс исламизации удмуртов в болгарское время. Но образование этнической группы бесермян рядом этнографов относится именно к болгарскому времени. Монгольское нашествие и разгром Волжской Болгарии в 1236 г., вероятно, на некоторое время притормозили деятельность представителей мусульманства в отношении удмуртов с целью обратить их в свою веру. Однако в 1319 – 1322 гг. ислам был принят в качестве государственной религии в Золотой Орде. И это сопровождалось его стремительным распространением среди различных слоев населения. Археологическое подтверждение исламизации восточных финнов, проживавших в крупных городских центрах: городище Мохши, Муранский и Аткарский могильники в Центральной России и Поволжье. Исламизация резко усилилась с образованием в XV веке Казанского ханства и продолжилась после присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству.
По исследованиям Н.А. Спасского, крещеные татары Казанского, Лаишевского, Мамадышского уездов Казанской губернии до принятия христианства были отатаренными удмуртами (около 10 тысяч человек). По подсчетам Н.А. Бобровинкова, в XIX веке, несмотря на усиленную миссионерскую деятельность православной церкви, ислам приняли свыше 15 тысяч удмуртов Казанской губернии. По сведениям православных миссионеров, язычница и ее род соответственно переходит к исламу в случае ее брака с мусульманином. С целью избежать преследования властей, принимавшие ислам удмурты, марийцы и чуваши записывались татарами. Ярким примером популярности в этих районах ислама говорит наличие мечетей в селах Верхний Гондырь и Большой Гондырь (в 1898 г.). На сегодняшний день в обоих селах живут удмурты1. С.Г. Рыбаков отмечал, что «вотяки многих деревень не только магометанствуют, но и построили уже мечети... Эти вотяки более ревностные магометане, чем татары»1.
Для того, чтобы ослабить данный процесс, православным миссионерским обществом была выпущена «Книга, объясняющая кто такой татарский народ» на удмуртском языке2. В ней говорилось: «В начале татары обитали на территории Сибири, и в их главе был Тимучин. Он был очень жестоким, ему не составляло труда убить любого человека. Он избавился от всех своих врагов и сварил их в 80 котлах. Таким образом, он стал во главе татар и подчинил множество народов. Целью Тимучина был захват всего мира. Тогда он назвал себя Чингизханом. Захватив Китай, истребив всех воинов Бухары, Чингизхан подчинил разрозненные земли Русские.
Даже самый свирепый зверь, будучи голодным, не трогает человека. Татары же хуже них, и лица не отличишь от зверей: при захвате городов татары не оставляли в живых никого - ни стариков, ни младенцев. Подвергали насилию молодых девушек, преследовали и добивали сбежавших. Заживо сожгли, спрятавшихся во Владимирской городской церкви, горожан.
На протяжении 250 лет русские были под гнетом татар. В плане веры им было легче, так как у татар не было своей религии. Дальше стало хуже: в 1309 году татары приняли веру Магомета и заставили всех ее придерживаться. Приняв эту веру стали еще кровожаднее. Неужели их религия разрешала убийство? Да – в новом законе татар прописано убийство неверных. Основатель этого закона араб Магомет – он является их пророком. Свои идеи Магомет изложил в книге, названной «Коран». Он назвал себя посланным богом палачом для неверных: отрубали голову и все пальцы. «Воюйте с неверными, бейте их, калечьте их, рубите.
В последнее время многие удмурты, позабыв свои древние традиции начали стремиться жить по этим татарским традициям: «очень жаль, удмурты! Татарское начало портит человека, делает его бездушным, похожим на свирепых волков. Удмурты, превратившиеся в татар, позабыв всех своих предков, возгордившись собой, отделяются от них, и становятся полностью подвластными татарам и любым их, даже лживым, законам»1.
Подобные факты позволили сделать исследователям вывод, что удмурты особо склонны к переходу в ислам.
Поскольку татаро-удмуртские связи были постоянными, то они привели к сильному взаимопроникновению языковых материалов. Поэтому неслучайно в отдельных диалектах, особенно в местах их интенсивного контактирования, исследователями обнаружено около 1800 тюркских заимствований. По времени проникновения эти заимствования относятся к разным историческим эпохам2.
Первый период – доболгарский. Данный пласт лексики мог попасть в пределы Волго-Камья, начиная с III - V веков, до прихода булгар. Поскольку связи гуннских племен с аборигенами не были постоянными, их влияние не могло оставить глубоких следов в языке и материальной культуре местного населения, какие оставили болгары и татары. Поэтому количество доболгарских заимствований незначительно – около двух десятков слов, причем многие из них в современных волжских тюркских языках не встречаются, но в наличие средниазиатских тюркских языках – в казахском, киргизском, узбекском, уйгурском, якутском и монгольском ( кобы — ковш, кузьыр-мазьыр - солоноватый, отьыны - пригласить, бам - лицо )3.
Второй период – время появления и владычества болгар на Средней Волге и в Прикамье ( VII – VIII вв.) в словарный состав удмуртского языка в этот период проникло около 200 лексических заимствований. Фонетический облик их близок к современным чувашским источникам и заметно отличается от татарских заимствований1.
Третий период – владычество Золотой Орды и Казанского ханства (XIII - середина XVI вв.). В этот период на удмуртов могли оказать влияние только каринские татары, представленные золотоордынскими князьями для политического надзора над северными удмуртами. Заимствования этого периода называют древнетатарскими. Они, как и болгаризмы, имеют специфические приметы и носят общенародный характер2.
Четвертый период – падение Казанского ханства и вхождение удмуртов в состав централизованного Русского государства. В указанный период татарский и удмуртский языки начинают развиваться как равноправными, тем самым несколько ослабевает татарское влияние на общенародный удмуртский язык. В то же время тюркоязычное влияние намного усиливается на диалекты, развивающиеся в окружении татарского населения в полной изоляции от основной массы удмуртов3.
Все вышеприведенные исторические данные свидетельствуют о том, что влияние тюркских языков на удмуртский язык и его диалекты различные исторические эпохи было неодинаковым. В силу этого и глубина проникновения тюркских элементов на различных уровнях структуры воспринимающего удмуртского языка и его диалектов оказалось неравномерной. В зонах внутрирегионального контактирования она более заметна и носит ярко выраженный характер, в зонах маргинального контактирования она во многих случаях выражена скрыто и распространяется не на все уровни языковой структуры, а в зонах, отдаленных от татарского населения, она ограничивается, главным образом, лексикой, лишь спорадически касаясь отдельных уровней структуры языка. В последнем случае лексические заимствования позднейшего периода носят лишь опосредованный характер.
Кроме того, татары оказали большое влияние на становление культуры удмуртского народа.
По оценкам М.Г. Худякова, целый ряд селений Сардыкбашской и Кошкинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии состоял из удмуртов и марийцев, принявших ислам и татарский язык в эпоху Казанского ханства. В зоне контактов южных удмуртов с казанскими татарами большинство удмуртов знали татарский язык, активно перенимали отдельные мифологические образы, навыки и обряды1.
Помимо контактов на уровне бытовой крестьянской культуры взаимодействие татарского и удмуртского народов нашло отражение и в сфере развития образования. В районах, где под влиянием мусульманской пропаганды удмуртское население переходило в ислам, родители часто отдавали своих детей для обучения в приходские мектебе соседних татарских селений. Там же, где новообращенные создавали собственные махалля, нередко вслед за строительством мечетей на средства богатых прихожан открывались и новые школы2. Программа в этих начальных учебных заведениях, как правило, включала лишь обучение чтению и письму, заучивание молитв. Дореволюционный исследователь Н.П. Штейнфельд отмечал, что «благодаря педагогической неспособности муллы, который зачастую сам малограмотен, и безобразно устаревшим приемам обучения» собственно образовательный эффект в подобных школах был незначителен3. Однако такая система позволяла достичь иную цель - полное принятие ислама и татарского языка удмуртскими детьми. В последующем некоторые из них, окончательно «выйдя в татары», продолжали свое образование в местных медресе и учебных заведениях Бухары, становились муллами1.
В 1885 г. увидела свет книга крупного татарского религиозного деятеля и историка Ш. Марджани «Местэфад ел-эхбар фи эхвали Казан вэ Болгар» («Кладезь сведений о делах Казани и Булгара»), в которой ученый, развивая идеи своего младшего современника Х. Фаизханова по вопросу этногенеза народов Среднего Поволжья, подчеркивает участие «финнов» в сложении булгар, уточняет, что под «саклабами» арабских источников следует полагать чуваш, марийцев, удмуртов и мордву2. Интерес представляют сообщения автора о распространении ислама среди удмуртов. Если предположение Ш. Марджани о том, что в Булгарии почти все «финны» были мусульманами и лишь после ее падения они вернулись к своим прежним верованиям3, является явным преувеличением, то процесс исламизации удмуртов в близкую к жизни автора эпоху заслуживает внимание. По словам Ш. Марджани, в современное ему время перешло в ислам население нескольких удмуртских деревень, появились образованные люди из числа их жителей. Приводится информация о нескольких муллах -по происхождению удмуртах, совершивших на рубеже 30-х - 40-х гг. XIX в. путешествие в Бухару4. Ввиду близости женского костюма кряшен и южных удмуртов следует обратить внимание на предположение исследователя о «финских» истоках первых5. Среди этнографических сведений, приводимых Ш. Марджани на страницах своей книги «Местэфад ел-эхбар...», в свете бесермянской проблемы интерес представляют следующие строки: «В Тетюшском уезде Казанской губернии есть чувашская деревня Хужасан, название которой в искаженном виде отражает имя Ходжа Хасан. Языки [на которых говорят ее жителей] - удмуртский и тюркский, а одежда и обычаи чувашские. Сейчас они являются христианами. По словам местных татар, 8090 лет назад в этой деревне была заброшенная старая мечеть»
В свою очередь, отдельные этнографические зарисовки о татарах Вятской губернии принадлежат перу выдающегося удмуртского просветителя, ученого, литератора Г.Е. Верещагина. В частности, им отражены особенности менталитета татарского народа, позволяющие находить взаимопонимание с удмуртами, татарское влияние на удмуртский женский костюм бассейна реки Иж.
Как отмечает А.В. Черных, проживая длительное время в иноконфессиональном окружении, удмурты испытали влияние со стороны исламских традиций: праздник «акашка», женский камзол, ряд узоров, слов, личных имен и фамилий, бытовых привычек заимствованы ими у татар-мусульман. Алнашские удмурты (юго-запад Удмуртии) в начале ХХ века носили амулеты с изречениями из Корана, ныргындинские удмурты (юго-восток Удмуртии) хоронят покойников по мусульманским обычаям1.
Таким образом, проанализировав труды исследователей ВолгоУральского региона, можно выделить следующие ареалы межкультурного и межнационального взаимодействия представителей удмуртского и татарского народов: религия, образование, язык, торговля, одежда, быт, родственные связи, мифология.
Но необходимо отметить, что в ходе проживания обоих народов в Среднем Поволжье со схожими хозяйственными занятиями, преобладало влияние татар на удмуртов. И в большей степени это проявлялось в росте популярности среди удмуртских народов ислама. Он, в свою очередь, повлиял в дальнейшем на широкое распространение среди нерусского населения татарского языка, включая татарскую антропонимику; популяризацию вступления в брак с представителем татарского народа; применение в мифологии татарских элементов.
Список литературы Особенности взаимодействия татар и удмуртов в XIX - начале XX века
- Пислегин Н.В., Чураков В.С. Этнокультурное взаимодействие татар и удмуртов // https://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnoe-vzaimodeystvie-tatar-i-udmurtov (Дата обращения: 15.11.2017 г.).
- Луппов П.Н. Материалы для истории христианства у вотяков в первой половине XIX века. - Вятка, 1911. - 568 с.
- ГАКО. - Ф. 56. - Оп. 1. - Д. 278.
- Верещагин Г.Е. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2: Вотяки Сарапульского уезда Вятской губернии. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996. - 200 с.
- Исхаков Р.Р. Формы и методы борьбы государства и православной церкви с исламизацией коренных народов Среднего Поволжья в пореформенный период (на материале Казанской, Симбирской и Вятской губерний) // Источники существования исламских институтов в Российской империи. Сб. статей. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. - 272 с.
- Чураков В.С. Об обстоятельствах появления каринских арских князей на Вятке // Материалы Всероссийской научной конференции «Урал-Алтай: через века в будущее». Уфа: Гилем, 2005. С. 216-219.
- Чураков В.С. Влияние политики великих князей московских в отношении каринских арских князей на формирование этнической территории удмуртов // Научно-практический журнал «Иднакар: Методы историко-культурной реконструкции». - 2007. - №2. С. 74-78.
- Касимов Р.Н., Пислегин Н.В. История и особенности исламской культуры в Удмуртии: научно-методическое пособие. - Ижевск: изд-во ИПК и ПРО УР, 2012. - 120 c.
- Садиков Р.Р. Религиозные верования и обрядность закамских удмуртов (сохранение и преемственность традиции). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра ист. наук. - Ижевск, 2011. - 40 c.
- Блинов Н.Н. Инородцы северо-восточной части Глазовского уезда (Дополнение к статьям о Карсовайском приходе) // ВГВ. 1865. № 63. - С. 242-243.
- Мэрданов Р.Ф. Иж шэhэре татарлары тарихыннан. - Казан: «Милли китап» нэшрияты, 2006. - 260 с.
- Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. - М., 1991, С. 196-197.
- Черных А.В. Народы Пермского края. Культура и этнография. - Пермь, 2007.
- Тараканов И.В. Межнациональные языковые контакты в Волжско-Камском регионе. - Диаспоры Урало-Поволжья: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. - Ижевск, 2004. - С. 180-183.
- Спасский Н.А. Очерки по родиноведению. Казанская губерния. - Казань, 1913.
- Рыбаков С. Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии. - СПб., 1900.
- Бигер калыклэсь кинь вылэмзэ валэктись книга. - Казань: Изд. Православное миссионерское общество, 1905. - 15 с.
- Штейнфельд Н.П. Малмыжские татары, их быт и современное положение // Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1894 год. Издание губернского статистического комитета. Вятка: губ. типография, 1893. Отдел III. - С.228-319.
- Мэрщани Ш. Местэфад ел-эхбар фи эхвали Казан вэ Болгар (Казан hэм Болгар хэллэре турында файдаланылган хэбэрлэр. Казан, 1989.
- Иванова М.Г. Иднакарский комплекс памятников в контексте этногенеза удмуртов // История, археология, этнография. - С. 98-105.