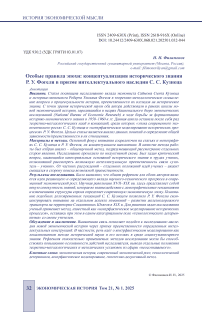Особые правила эпохи: концептуализация исторического знания Р. У. Фогеля в призме интеллектуального наследия С. С. Кузнеца
Автор: Филимонов И.Н.
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История экономической мысли
Статья в выпуске: 1 (68) т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена исследованию вклада экономиста Саймона Смита Кузнеца и историка-экономиста Роберта Уильяма Фогеля в теоретико-методологическое осмысление вопроса о процессуальности истории, преемственности их взглядов на историческое знание. С точки зрения исторической науки оба автора действовали в рамках школы новой экономической истории, зародившейся в недрах Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research) в ходе борьбы за формализацию историко-экономического знания в 1950-1960-х гг. Данная школа оставила после себя ряд теоретико-методологических идей и концепций, среди которых «эпоха современного экономического роста» С. С. Кузнеца и «контрфактическое моделирование исторических процессов» Р. У. Фогеля. Целью статьи является анализ данных понятий и определение общей зависимости/преемственности в их отношениях.
Экономическая история, современный экономический рост, технологический детерминизм, контрфактическое моделирование, гипотетико-дедуктивный метод
Короткий адрес: https://sciup.org/147247929
IDR: 147247929 | УДК: 930.2 | DOI: 10.24412/2409-630X.068.021.202501.032-044
Текст научной статьи Особые правила эпохи: концептуализация исторического знания Р. У. Фогеля в призме интеллектуального наследия С. С. Кузнеца
«Новая экономическая история» - довольно широкое понятие, синонимами которого могут выступать «клиометрия» и «квантитативная история». Каждое из них имеет свои нюансы и историю бытования, однако все они обозначают применение экономической теории и количественных методов в исторической науке, используемых для описания социальных процессов и явлений [7, с. 75–78]. «Новым» данный подход делает антитеза со «старой» экономической историей, которая, в свою очередь, не является отдельной школой, а лишь обозначает некоторую группу сил, противостоящую «новому» подходу [14, p. 655]. Эта дихотомия возникла в ходе борьбы за влияние между молодыми экономистами, вторгавшимися в сферу экономической истории на рубеже 1950–1960-х гг., и историками – заслуженными профессорами, контролировавшими Ассоциацию экономической истории (Economic History Association) [16, р. 193-195]. Однако данное противостояние – не только очерки по социологии науки, которые могут объяснить причины конфликтных ситуаций и траекторию движения научного знания. Это также история научных методов и теоретико-методологических оснований исследований, которые используют стороны в ходе борьбы за влияние и ресурсы. В данной статье речь пойдет о двух экономистах, являющихся знаковыми фигурами для нового направления, которое, однако, не исчерпывается ими. Совместное заседание Национального бюро экономических исследований и Ассоциации экономической истории в 1957 г., а также организация научных семинаров нового направления в Университете Пердью заложили основу новой экономической истории и сформировали ядро исследователей, целью которых была формализация историко-экономического знания [16, p. 193–195]. Одним из нововведений подхода и, быть может, самым важным из них является контрфактическое моделирование исторических процессов Роберта Уильяма Фогеля, бросившего своей работой
“Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History” (1964) вызов устоявшимся представлениям о важности и непреходящем значении железнодорожного транспорта для экономической жизни Соединенных Штатов в XIX в. Данная монография являлась переработкой его докторской диссертации, которую он защитил в Университете Джонса Хопкинса [6, с. 101] под руководством Саймона Смита Кузнеца, стоявшего у истоков нового направления [10, с. 144–145].
Материалы и методы
Настоящая статья является апробацией диссертационного исследования по шифру «5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования», посвященного контрфактическому моделированию в исторической науке. Одной из центральных проблем будущей работы является определение интеллектуальной преемственности данного метода, его теоретико-методологических оснований. В данном тексте делается попытка рассмотреть конструкции исторического знания в работах Р. У. Фогеля через призму трудов его учителя для определения возможных категорий интеллектуальной преемственности. В качестве материалов исследования были привлечены статьи и монографии указанных авторов во взаимосвязи «учитель - ученик», а также историография по заданной теме.
Методом работы избран анализ как рассмотрение отдельных сторон явления. Подразумевается, что у исследуемого взаимодействия имеются дополнительные категории, будь то межличностные или деловые взаимоотношения. Однако в данном случае работа посвящена интеллектуально-му/идейному взаимодействию Р. У. Фогеля и С. С. Кузнеца, их вкладу в историческое знание / науку. Исследование проходило по индуктивной схеме. За первоначальный вопрос-гипотезу была взята рабочая необходимость поиска интеллектуальных оснований исторического знания в работах Р. У. Фогеля – истоков его взглядов – и, в частности, контрфактического моделирова- ния. Подобная методическая простота позволяет сконцентрировать фокус внимания на искомых концепциях/понятиях историко-экономической мысли, абстрагируясь от дополнительных событийных последовательностей. В разделе «Результаты исследования» приведены основные положения исторических воззрений Р. У. Фогеля. В разделе «Обсуждение» на первоначальные положения накладывается рамка воззрений С. С. Кузнеца. Раздел «Заключение» призван объединить данные конструкции.
Результаты исследования
Роберт Уильям Фогель родился в 1926 г. в Нью-Йорке, через несколько лет после переезда его семьи из Одессы. В 1948 г. получил степень бакалавра в Корнеллском университете; в 1960 г. – степень магистра в Колумбийском университете. В 1963 г. защитил диссертацию в Университете Джонса Хопкинса [8, с. 258]. Магистерское и докторское исследования Р. У. Фогеля были посвящены тематике железнодорожного транспорта в Соединенных Штатах – его роли и значению в экономической жизни страны в XIX в. Интерес молодого ученого к данной тематике подогревался профессором Колумбийского университета Картером Гудричем [8, с. 258], работавшим над монографией “Government Promotion of American Canals and Railroads. 1800–1890” [17], вышедшей в 1960 г. Она была посвящена роли американских правительств – федерального, штатов и муниципалитетов – в создании возможностей для внутреннего транспорта. Это анализ политики развития, обеспечения инфраструктурного капитала и отношений между государственной поддержкой и усилиями частного предпринимательства [17, p. 3]. Автор поставил ряд вопросов, касающихся финансирования, рисков и прибыли железной дороги Union Pacific, которые легли в основу магистерской диссертации Р. У. Фогеля, изданной в виде монографии “The Union Pacific Railroad: A Case in Premature Enterprise” [15] в 1960 г. К. Гудрич не использовал новые математические и статистические методы экономики, но призывал к этому
Р. У. Фогеля [8, с. 258], а также указывал на С. С. Кузнеца как на потенциального научного руководителя будущей диссертационной работы [8, с. 258].
Главным программным документом контрфактического моделирования является монография Р. У. Фогеля “Railroads and American Economic Growth...” (1964) - переработанная версия его диссертационного исследования. От нее берет свое начало как оформленный метод, так и его теоретическое обоснование. Работа позиционировалась как критическая оценка утверждения о необходимости железных дорог для экономического роста Соединенных Штатов в XIX в. Анализ строился на общепринятом представлении о транспортной системе страны, однако отдельные, но важные аспекты пересматривались на основании современных на тот момент аналитических и количественных методов экономики [13, р. VII]. Р. У. Фогель утверждает, что преобладающая интерпретация влияния железнодорожной инфраструктуры на экономику была порождена в XIX в. и основывалась на трех особенностях. Во-первых, некоторые положения принимались в качестве очевидных истин, не требующих подтверждения. Во-вторых, анализ происходил в концептуальных рамках дебатов о железнодорожной политике после Гражданской войны. В-третьих, неспособность использования количественных методов и теоретических инструментов современной экономики [13, p. 1–2]. Данные особенности сложились в аксиому незаменимости железнодорожного транспорта, эмпирическое подтверждение которой потребовало бы от железнодорожной инфраструктуры такого дополнительного вклада, который бы обусловливал большую часть продукции американской экономики XIX в. При этом указанная аксиома являлась не просто утверждением об эффективной форме предоставления транспортных услуг, но и неявным утверждением о неэффективности остальных видов транспорта. В этом противопоставлении возникает утверждение, что экономика XIX в. не имела эффективной альтернативы железнодорожному транспорту и не могла ее создать. Ввиду этого исследование «незаменимости» потребовало от Р. У. Фогеля не только изучения железнодорожного транспорта, но и его потенциальной замены. Соединение данных картин является контрфактическим моделированием исторического процесса [13, p. 9–10].
Речь идет о том, что важны не только конкретные экономические силы, но и аналоги, их конкурентный потенциал и возможности в освоении рынка. Ситуация рассматривается через контрфактическое моделирование в моменте времени и не предполагает построения линии альтернативной истории. Однако подразумевается, что при рассмотрении возможностей конкурирующих сил за скобки выносится лидер данного противостояния. Это необходимо для понимания, смогут ли оставшиеся игроки апроприировать его долю и каковы будут экономические потери от оставшейся невостребованной части. В частности, аксиома о незаменимости железных дорог подразумевает неспособность иных видов транспорта выполнять, по существу, ту же роль.
Р. У. Фогель ведет повествование к мысли, что ни одна из инноваций не была жизненно важной для экономического роста XIX в. Он являлся следствием научной революции XVII–XIX вв. Знания, приобретенные в данный период, послужили основой для множества инноваций, которые были применены в широком спектре экономических процессов. Политические, географические и социальные преобразования способствовали успеху и эффективности данных инноваций. Железнодорожный транспорт появился позднее описываемых событий и не являлся системообразующим в преобразовании экономической жизни [13, p. 234–235].
Ученый приходит к выводу, что рассуждения о вкладе железных дорог в экономический рост должны быть основаны на гипотетико-дедуктивных системах. Это подразумевает не только выдвижение гипотезы и ее эмпирическую проверку, но и сравнение реального и потенциального. Иными словами, события и отношения, бывшие в реальности, должны подвергнуться сравнению с событиями и отношениями, которые произошли бы при отсутствии железнодорожной инфраструктуры. Сложной задачей Р. У. Фогель называет определение в среде различных вариантов альтернативных моделей реальности. В том случае, когда модели и теории внутренне непротиворечивы, все они правильны, даже если они противоречат друг другу [13, p. 246–247]. Важно осознавать, что исторические модели могут основываться не на строгих законах, а на законоподобных обобщениях, не являющихся универсальными. Они могут быть основаны на переходных закономерностях, ограниченных во времени или иным образом [13, p. 248].
Отличительной чертой новой экономической истории является акцент на связи измерения – внимания к количественным данным – и теории, т. е. концептуальной рамки исследования. Экономическая история может восприниматься в качестве некоего проводника больших массивов данных в исторической науке, однако многие исследования и дискуссии вокруг них носили скорее качественный характер, используя количественный материал в качестве иллюстративного. Р. У. Фогель считает, что новая экономическая история и, в частности, контрфактическое моделирование являлись попыткой реконструкции американской экономической истории на базе количественных данных [14, p. 651–652]. Специальные статистические и математические методы используются тогда, когда обнаруживается серьезная нехватка данных. Информация о некоторых аспектах жизни общества и его институционального устройства может быть либо скрытой в массиве других данных, либо отсутствовать полностью. Однако в ряде случаев бывает достаточно простых процедур, не требующих от ученого изощренных инструментов исследования [14, p. 652].
Если абстрагироваться от количественных методов как общего наследия экономической истории, то основной чертой нового подхода можно назвать связь теории с имеющимся материалом, которая выступает как один из аспектов формализации исторического знания учеными-экономистами. Для контрфактического моделирования наиболее очевидными теоретическими рамками, обеспечивающими эпистемологическую монолитность материала в монографии “Railroads and American Economic Growth...”, являются гипотетико-дедуктив-ный метод и технологический детерминизм автора работы. Первый обеспечивает поступательность шагов, предпринимаемых исследователями. Его суть заключается в дедуктивной проверке выдвинутых на начальном этапе работы универсальных эмпирических гипотез [2, с. 19]. Второй является скорее условием, выдвигаемым характером исследуемого материала. Р. У. Фогель дискутирует с монографией экономиста Уолта Ростоу “The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto”, вышедшей в 1960 г. [23]. Ее автор несколько абстрагируется от социальных факторов, что позволяет ему сконцентрировать внимание на технологических аспектах развития [1, с. 248; 5, с. 182–185]. У. Ростоу является одним из апологетов важности и непреходящего значения железнодорожного транспорта для экономики Соединенных Штатов в XIX в. [23, р. 55], и Р. У Фогель вынужден откликаться на положения, изложенные в работе оппонента [13, p. 111–114].
Важность согласованности теории и измерения наиболее четко проявляется там, где целью исследования является поиск непосредственного эффекта инноваций, институтов или процессов – законоподобных оснований общественной жизни/развития. Однако для этого предмет исследования необходимо вывести за пределы исследуемых институтов. Это делается для того, чтобы при помощи сравнения контрфактического состояния и наблюдаемой реализованной ситуации определить чистый эффект данных законоподобных оснований на ситуацию, в которой существует предмет исследования [14, p. 653–655]. Необходимость данного сопоставления состояний может подталкивать исследователя к неосознанному использованию контрфактического моделирования. Разница между новым и «старым» подходами заключается вовсе не в частоте использования данного метода, а в открытом декларировании и рефлексии его использования. Экономическая история изобилует скрытыми контрфактическими утверждениями, считает Р. У. Фогель [14, р. 655]. Проверка же подобных утверждений может осуществляться несколькими способами. Во-первых, это определение, следует ли утверждение логически из своих предпосылок. Во-вторых, это проверка эмпирической обоснованности модели – достаточности оснований. Большинство пересмотров и проверок осуществлялись апологетами новой экономической истории именно на этих основаниях с целью приведения устоявшихся мнений в научную форму при помощи обоснованных гипотетико-дедуктивных моделей [14, p. 655–656].
Может показаться, что поиск законоподобных оснований подразумевает необходимость математических сентенций, которые являются олицетворением количественных исследований. Однако Р. У. Фогель утверждает, что это не всегда так. Объективность исторической науки требовала от ее адептов глубокого проникновения в источник при помощи внутренней и внешней критики. Поиск подлинности свидетельств, основанный на методах классической филологии, привел к формированию особого жанра – исторического исследования. Его отличительной чертой было обилие сносок - всевозможных ссылок на использованные источники. Данная особенность исторической науки приводила к акценту на уникальности и частном характере природы человеческой истории, выделяющему ее на фоне других наук [11, p. 8–9]. Несмотря на то что многие историки сосредоточились на политической истории, они не отказались от менее претенциозных, но более свободных обобщений, которые могут являться следствием индуктивного исследования, основанного на систематическом сборе фактов [11, p. 10–11].
Историческое исследование, имеющее целью доказательство определенной точки зрения или опровержение позиции оппонента, является по своей сути правовой моделью, считает Р. У. Фогель [11, p. 49]. Историк пытается заручиться поддержкой авторитетных свидетелей, которые могли бы с высокой долей вероятности знать достоверную информацию о произошедшем. Он также стремится оспорить позицию оппонента, продемонстрировав несостоятельность показаний его свидетелей. Все это касается не только исторических личностей, но и документальной информации. Бумаги, которые предлагаются в качестве подтверждения той или иной позиции, подвергаются тщательному анализу, так как исследователю необходимо доказать подлинность, аутентичность, непротиворечивость и надежность информации, содержащейся в них. Также искусство критики может помочь усомниться в интерпретации свидетельств противоположной стороны - ее обоснованности, способности свидетеля оппонента воспринять происходившее. Помимо всего вышеперечисленного, историк может рассуждать по аналогии или приводить в качестве аргумента прецедент в виде авторитетного мнения, касающегося данного вопроса [11, р. 49-50]. Подобный метод исследования приводит к тому, что сноска выступает важнейшим элементом доказательства. Она позволяет оппоненту лично убедиться в подлинности материала и проследить ход рассуждений ученого [11, p. 49–52].
Представитель школы новой экономической истории также пытается доказать свою точку зрения или опровергнуть версию оппонента, но делает это несколько иным способом. Его цель заключается в том, чтобы изначально артикулировать неявные эмпирические предположения, которые затем необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть – обычно при помощи количественных данных. В этом случае роль сноски как таковой снижается. Однако ряды данных и используемые методы могут быть столь обширными, что не представляется возможным подробно изложить их в сжатом виде, указывает Р. У Фогель [11, p. 51–54; 12]. Это приводит к тому, что лишь немногочисленные профессионалы в состоянии оценить вклад своего коллеги-ученого. Немаловажным обстоятельством также является то, что, как и написание подобной работы, ее проверка требует значительного количества времени, затраты сил и энергии. Стоит сделать оговорку, что речь идет о рубеже 1970–1980-х гг. [11, p. 52– 53] - эпохе компьютерных лент и зарождения коммуникационной сети Интернет. Современные технологии могут до некоторой степени упростить доступ к информации и облегчить процесс верификации данных. Несмотря на уровень сложности необходимых манипуляций, именно гипотетико-де-дуктивная модель является краеугольным камнем исследований в стиле новой экономической истории, противопоставляя свои объяснительные конструкции попыткам индуктивных обобщений.
Обсуждение
Однако не стоит идеализировать «научную историю», обладающую патетикой истинного знания об окружающей действительности. Как и все прочие исследовательские стратегии, она не лишена недостатков. Быть может, главный из них – это проблема исторической перспективы. В нобелевской автобиографии Р. У. Фогель упоминает о курсе по экономическому росту, который в Университете Джонса Хопкинса читал его учитель. С. С. Кузнец предупреждал своих слушателей о систематической необъективности данных, которая, в отличие от случайных ошибок, является центральной проблемой экономической статистики [8, с. 259]. Составной частью проблемы исторической перспективы является неспособность некоторой части исследователей-экономистов принять во внимание историю, что ранее приводило к неправильному пониманию текущих экономических проблем. Данные ученые не осознавали, что их обобщения строятся на преходящих обстоятельствах [9, с. 264].
Саймон Смит Кузнец родился в 1901 г. в Российской империи. В 1922 г. эмигриро- вал в Соединенные Штаты. В Колумбийском университете получил степень бакалавра в 1923 г. и магистра в 1924 г. Там же защитил диссертацию в 1926 г. [3, с. 91]. Одной из центральных идей С. С. Кузнеца является понятие «современный экономический рост», объединяющее экономическую теорию и историческую перспективу. Экономический рост отдельно взятой страны можно определить как долговременное увеличение возможностей обеспечивать население все более разнообразными товарами потребления, основанное как на технологическом развитии, так и на институциональных и идеологических установках, которых оно требует [4, с. 92–93; 21]. В совокупности со своими причинами, лежащими в исторической плоскости, современный экономический рост формирует контуры одноименной эпохи, которую С. С. Кузнец описывает в шести основных характеристиках. Во-первых, это высокие темпы роста производства продукции на душу населения и общей численности населения в развитых странах. Во-вторых, это рост производительности – отдачи на единицу вложенных средств. В-третьих, это высокие темпы структурных трансформаций экономики: от сельского хозяйства к промышленности и, далее, к сфере услуг; а также переход к обезличенным организациям, сдвиги в структуре потребления и т. д. В-четвертых, это быстрое изменение структуры общества и его идеологии. В-пятых, это облегчение условий международной коммуникации в ходе развития инфраструктуры транспорта и связи. В-шестых, это ограниченность современного экономического роста четвертью населения Земли, в то время как три четверти были вынуждены использовать минимальный набор современных технологий, серьезно уступая экономически развитым странам на момент 1971 г. [4, с. 94–95]. Данные характеристики были сформулированы ученым исходя из анализа национального продукта и ряда его компонентов – численности населения, трудовых ресурсов и т. д. Международное распространение изменений в данных областях позволяет ему сделать вывод, что современный экономический рост знаменует собой особую эпоху экономического развития.
Новые характеристики во многом продолжают старые тенденции. За некоторым исключением, развитые страны опережали весь остальной мир еще до начала современного роста и индустриализации, так как имели сравнительные преимущества, заданные еще до начала новой эпохи. Это подчеркивает то обстоятельство, что выделение экономических эпох является сложным интеллектуальным выбором и что продолжение прошлых трендов и их изменяющаяся модель являются темами, заслуживающими внимания исследователей, считает С. С. Кузнец [4, с. 95]. Как период истории, эпоха современного экономического роста имеет собственные отличительные черты, движущие силы, временные рамки и некоторые особые области, которые можно назвать исключениями.
Выше были перечислены шесть характеристик современного экономического роста, которые могли бы выступить в качестве перечня особых черт описываемой эпохи, отличающих ее от предыдущей. Вполне возможно, что некоторые из них смогут выступить в качестве отличительных черт и при переходе к следующей эпохе, если абстрагироваться от фатализма, касающегося будущих изменений. Объединяющим звеном данных характеристик может являться перманентность происходящих изменений. То есть современную экономическую систему определяет непрерывность наблюдаемых изменений. Эту длящуюся мобильность можно рассматривать как черту, которая отличает современную экономическую организацию от Средневековья, или, как следствие, более фундаментальной черты: например, более существенной рациональности экономического поведения современного человека. В любом случае речь идет о заметных изменениях, частота которых нуждается в осознании [22, p. 1–2]. Эта черта или их комплекс могут абсорбировать в себе все наблюдаемые изменения, будь то высокие темпы роста производительности или развитие инфраструктуры транспорта и свя- зи. Даже то, что касается изменений охвата современного экономического роста, подчиняется общему правилу через успех таких стран, как Япония или Россия, нарушая общую преемственность экономического развития [4, с. 95]. Однако довольно смелым шагом было бы сказать, что суть текущих изменений заключается исключительно в их непрерывности. Когда одна диспозиция сменяет другую, а та сменяет третью, объединение по факту изменения конфигурации может быть чрезмерно общим и ни к чему не обязывающим. В качестве объяснительной конструкции С. С. Кузнец приводит взаимосвязь роста численности населения и достижений экономического роста, обеспечивших возможность подобных демографических тенденций современности. Основой данных процессов является накопление запаса полезных знаний, касающихся как проблем здоровья и продолжительности жизни, так и экономического производства. В свою очередь, установившиеся модели современной демографии также создают условия для экономического роста и, возможно, вносят существенный вклад в повышение показателей на душу населения [20, p. 56–58]. Каким бы ни был источник увеличения полезных знаний, их комплекс и расширение области применения являются решающими для современного экономического роста. Вне зависимости от того, где именно появляются технологические и социальные инновации, экономический рост любой страны будет зависеть от успешности их внедрения, так как обусловленность экономического роста нации транснациональным запасом полезных знаний неявно заложена в концепции самой эпохи, выделяющейся на фоне других комплексом крупных инноваций, общих для всех и, следовательно, лишенных прерогативы быть чьими-то конкретно [20, p. 286– 287]. Эта особенность обеспечивает стимул и возможность экономического роста для отсталых стран через их сосуществование с развитыми в условиях минимального сопротивления враждебных прогрессу сил, которые могли бы помешать модернизации [20, p. 461–462].
Из множества факторов, определяющих современный экономический рост, можно выделить три группы, которые являются динамическими движущими силами данного процесса: рост населения; изменение спроса; а также технические изменения, включающие механические, инженерные и организационные улучшения. Внимание к любой из составляющих триады приведет нас к двум другим, вызвав цепную реакцию рассуждений. Хотя все три группы факторов взаимосвязаны, оказывая друг на друга определенное влияние, рост населения во многом связан с изменениями спроса и предложения средств к существованию, которые зависят от состояния технического прогресса. Именно он наиболее четко обусловливает демографические тенденции и изменения спроса, в то время как обратная зависимость может быть непоследовательна и менее очевидна [22, p. 5–9].
Некой естественной границей наблюдения данных тенденций является суверенное государство, которое может выступать в качестве движущей силы экономического роста, выдвигая на это претензию. Выбор государства в качестве единицы экономического наблюдения может быть продиктован особенностью сбора данных, необходимых для анализа ситуации. Дело в том, что позволить себе провести исследование подобного масштаба – как с точки зрения права, так и со стороны организационных возможностей – может именно суверенное государство. Однако предполагается, что каждая из этих суверенных политических единиц определяет группу – отдельную часть человечества, претендующую на некоторый период общей истории в качестве своего экономического триумфа, проявившегося через решающий вклад в дело общего развития. Государство здесь выступает не только в качестве отдельной статистической единицы, но и в виде движущей силы, обусловливающей процесс экономического роста [18, p. 6–8]. Помимо этого, крупные суверенные государства имеют склонность к экспансионистской тенденции в процессе современного экономического роста. Данная склонность проявляется не только в виде территориальных приобретений, но и через наращивание объемов внешней торговли и распространение международной торговли. Подобные отношения инициировались более развитыми странами. Их экспансия проявлялась как через расширение первоначального территориального суверенитета, так и через навязывание международной торговли и разделения труда [20, p. 334–338].
Исследования С. С. Кузнеца, как и сама концепция эпохи, основывается на гипотезе о том, что выявленный современный экономический рост окажется значительным, упорядоченным и самобытным комплексом долгосрочного экономического опыта человечества. Особенностью данного роста также будет являться иная конфигурация общих характеристик и последовательность распространения, отличная от прошлого опыта таким образом, что современный экономический рост можно будет изучать отдельно от экономического роста предшествующей эпохи [20, p. 487–488]. Говоря о границах современного экономического роста, будет уместным сказать, что если выделить отдельные нации или отрасли производства, то картина будет не столь однородной, чтобы говорить о непрерывных тенденциях. Экономический рост одних стран приходил на смену экономическому росту других. Однако если рассматривать общемировое экономическое развитие, то с конца XVIII в. перед наблюдающим предстанет картина непрерывного и незамедляющегося роста в плане расширения производства и торговли, увеличения производства и потребления энергии, добычи сырья, а также в разрезе качества и количества готовой продукции [22, p. 3–4]. Так как именно люди обеспечивают экономический рост посредством увеличения производства и потребления, похожая ситуация наблюдается и в демографии: высокие темпы роста населения начиная с середины XVIII в. [20, p. 34–36].
Помимо хронологических рамок, концепция С. С. Кузнеца имеет границы, выраженные рядом исключений, которые описывают альтернативные способы существования в рамках обозначенной эпохи. Одной из причин интереса к теме экономического роста являлось появление иной социальной организации, претендовавшей на большую эффективность в деле решения ряда долгосрочных экономических проблем. Речь идет об авторитарном государстве советского типа, некоторые элементы которого встречались и ранее, хотя и в рудиментарной форме. Как суть, такое государство является воплощением системы контроля избранными представителями за соблюдением определенных, пусть и предвзятых, теоретических норм. Однако отличительной чертой советского государства является культ материальных достижений, обособленный от остального мира через некоторую ортодоксию. Иными словами, в условиях эпохи современного экономического роста центральной идеей такой организации является экономическое преуспевание [18, p. 2–4]. Советский Союз, в частности, мог бы войти в число развитых стран по ряду экономических показателей. Однако специфика социальной структуры и институциональных средств, с помощью которых в коммунистических странах был обеспечен экономический рост, существенно отличается от таковой в прочих странах. Рост совокупного выпуска товаров и услуг может быть сопоставим лишь в условиях приблизительного соответствия социальных и институциональных практик. Данные показатели несопоставимы, если практики одного государства неприемлемы для другого [19, p. 10, 19]. Стоит отметить, что данная проблема характерна не только для авторитарных государств советского типа и может проявляться через иные механизмы. Несколько стран, преимущественно малых, с большими запасами природных ресурсов в сравнении с их размером и численностью населения, получают финансовую отдачу, которая создает высокие показатели продукта на душу населения, несмотря на экономическую и социальную структурную отсталость. Данные страны также не могут сравниваться в своем успехе с развитыми странами, так как их пути достижения экономического благосостояния отличаются от методов развитых стран, являясь своего рода исключением из общей картины. На момент 1965 г. С. С. Кузнец относил к группе таких стран Бруней, Кувейт, Нидерландские Антильские острова и Венесуэлу [19, p. 10]. Противоположностью описанным исключениям является Япония. Хотя показатели ее продукта на душу населения являлись относительно низкими на момент 1965 г., ее социальная и экономическая структура повторяла аналогичные паттерны развитых стран, что позволяет сравнить данные государства как равные [19, p. 10, 13, 17–19].
Заключение
Если обобщить идеи С. С. Кузнеца, то эпоха современного экономического роста представляет собой период времени, принципиально отличный от предшествующих. Он характеризуется значительным, упорядоченным и самобытным комплексом экономического опыта. Данная эпоха может быть рассмотрена отдельно от предшествующего ей периода ввиду иной конфигурации общих характеристик и уникальных механизмов распространения современного экономического роста, начавшегося во второй половине XVIII в. Движущей силой и инициирующим началом данного экономического роста являются рост численности населения, изменение спроса и научно-технический прогресс, где последний фактор наиболее четко обусловливает остальные. При этом последовательность от экономического импульса к экономическому эффекту может быть разделена рядом неэкономических связей. Современный экономический рост может быть территориально ограничен и зависим от проводимой государством политики, однако наиболее развитые страны склонны к разного рода экспансиям, подталкивая к росту прочие страны. Связующей нитью поиска С. С. Кузнецом законоподобных оснований эпохи является научно-технический прогресс, в котором он находит наиболее четко обусловленные тенденции всех прочих преобразований. Ученый выделяет эпоху современного экономического роста среди остальных, делая возможным ограничить поиск законоподобных оснований рамками, характерными для обозначенной эпохи. Обозримость процесса, локализованность каузальных оснований и четкость экономического языка позволяют Р. У Фогелю использовать контрфактическое состояние для того, чтобы охарактеризовать предмет своего исследования - железнодорожный транспорт – и также прийти к выводу о решающей роли научной революции XVII–XIX вв. для экономического роста XIX в., где ни одна из инноваций не имела абсолютного значения на контрасте их множественности. В данном случае контрфактическое моделирование исторических процессов Р. У. Фогеля является следствием более глобального/общего знания экономической науки о долговременных тенденциях, апологетом и проводником которого являлся С. С. Кузнец, удостоенный в 1971 г. премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за эмпирически обоснованную интерпретацию экономического роста, приведшую к более глубокому пониманию социально-экономической структуры общества и процесса развития [24].